что это такое? Примеры и определение, постпроизвольное внимание в психологии по Леонтьеву
Внимание необходимо в повседневной жизни на каждом шагу. В разных ситуациях оно активизируется и направляется на тот или иной объект. Это свойство позволяет отбирать нужную и важную для нас информацию. Но реагируя на разные вещи и ситуации, мы не задумываемся о том, что существует несколько видов внимания. Послепроизвольное наряду с произвольным и непроизвольным представляет немалый интерес.
Что это такое?
У каждого вида внимания своя степень активности. Поэтому и различают три вида.
Определение в психологии говорит о том, что послепроизвольное внимание – это такое состояние человека, когда он полностью сосредоточен на определённом предмете.
Иными словами, это то состояние, когда присутствует устойчивая мотивация к чему-либо. Поэтому все силы направлены на достижение цели, всё даётся легко, не ощущается даже усталость при длительной умственной работе.
Это как раз тот вид концентрации, которая необходима школьнику или студенту для блестящего изучения предметов. Родители и учителя стремятся к тому, чтобы у детей присутствовало именно такое внимание, которое позволит хорошо усваивать материал и хорошо учиться.
По Леонтьеву (психолог, много времени уделявший изучению всех трёх типов) послепроизвольное внимание – это естественный процесс, который базируется на произвольном внимании.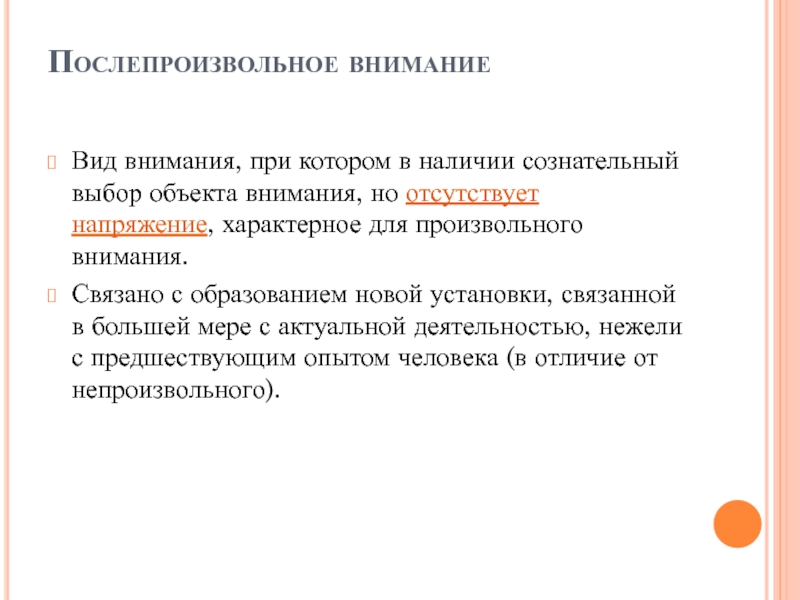 В основе обоих типов лежит интерес к предмету. Но интерес в первом и втором случае немного разный.
В основе обоих типов лежит интерес к предмету. Но интерес в первом и втором случае немного разный.
В послепроизвольном подключается интерес человека к результату, который получится в итоге производимой деятельности.
Сравнение с другими видами внимания
Если сравнивать постпроизвольное внимание (оно же послепроизвольное) с двумя другими, то можно обнаружить, что данный вид отличается от непроизвольного, но схож с произвольным.
Непроизвольное внимание возникает без всяких стараний, оно не связано с какими-то определёнными действиями и усилиями, а возникает как реакция на всё, что нас окружает.

А вот произвольное и послепроизвольное – это уже те виды, которые «включаются» по воле человека, исходя из его выбора.
Рассмотрим подробнее все три разновидности, чтобы понять, в чём их отличия.
- Непроизвольное внимание не зависит от наших желаний. Это может быть, например, грохот грома, яркий свет фар автомобиля, внезапно появившийся запах гари или свежеиспечённого хлеба. Непроизвольное внимание захватывает неожиданно появляющиеся события, которые могут быть важными для нас. Во всех этих случаях ситуация, возникающая во внешнем мире, нам неподвластна. А, наоборот, мы зависимы от неё. Непроизвольное внимание присуще и животным, их реакция на внешние раздражители и есть его проявление. Особенность человеческого внимания в том, что люди могут его контролировать, в отличие от животных.
- Произвольное внимание в корне отличается от предыдущего вида. Мы ставим перед собой цель, собираемся решить определённую задачу и направляем на это произвольное внимание, полностью сосредотачиваясь на объекте.

- Послепроизвольное тоже происходит благодаря усилиям человека, и в этом оно схоже с произвольным. Но отличается тем, что послепроизвольное внимание – это не просто концентрация человека на какой-либо деятельности, потому что это нужно, это уже интерес к ней. Его интересует и конечный результат, но и сам процесс начинает увлекать и доставлять удовольствие. Послепроизвольное внимание длится гораздо дольше других видов и даёт наилучший результат. Это можно сравнить с тем, когда человек посвятил свою жизнь любимому делу и занимается им с удовольствием.
Таким образом, все три вида имеют свои сходства и отличия, но разграничить их между собой достаточно просто.
Также становится очевидным, что произвольное внимание легко может перейти в послепроизвольное.
Обзор примеров
Понять, как на деле проявляется послепроизвольное внимание, а также как оно вытекает из произвольного, помогут наглядные примеры.
- Если, например, к художнику пришло вдохновение, он готовит холст, мольберт, кисти, краски и приступает к работе в мастерской или выезжает на пленэр, где планирует сделать наброски для будущих картин – это как раз послепроизвольное внимание. В этом случае человек занимается деятельностью, которая увлекает его и доставляет удовольствие.
- Другой вариант. Женщина собирается удивить семью, приготовить какое-то вкусное блюдо.
 Делает она это с душой, ей нравится сам процесс, и она заинтересована в результате своего труда. Женщина изучает рецепт, готовит ингредиенты, создаёт вкусное блюдо. Это занятие ей в радость. Она не заставляет себя на этом сосредоточиться, всё происходит само собой.
Делает она это с душой, ей нравится сам процесс, и она заинтересована в результате своего труда. Женщина изучает рецепт, готовит ингредиенты, создаёт вкусное блюдо. Это занятие ей в радость. Она не заставляет себя на этом сосредоточиться, всё происходит само собой. - Ещё один вариант, когда сразу включается послепроизвольное внимание – человек в предвкушении встречи с друзьями, с которыми долгое время не встречался. Он с самого начала заинтересован в этой встрече, настроен на положительные эмоции, и в процессе общения он чувствует сплошной позитив.
Очень часто послепроизвольное внимание включается вслед за произвольным. Рассмотрим, как это происходит на примерах.
- Ребёнок садится читать какую-то книгу, потому что это нужно делать, и он это понимает. Сначала он включает произвольное внимание, старается вдумчиво читать. Но в какое-то время он увлекается, ему становится интересно.
 И он уже читает не потому, что так надо, а потому, что хочет узнать дальнейшее развитие событий и чем всё закончится. Это уже включилось послепроизвольное внимание.
И он уже читает не потому, что так надо, а потому, что хочет узнать дальнейшее развитие событий и чем всё закончится. Это уже включилось послепроизвольное внимание. - Или, допустим, нужно освоить для себя что-то новое. Например, английский язык. Сначала не возникает особого энтузиазма. Нужно учить слова, глаголы, времена, что кажется очень нудным. Но произвольное внимание помогает справляться. Затем что-то начинает получаться, просыпается интерес, хочется добиться большего – появилось послепроизвольное внимание.
Если задаться целью, то можно понаблюдать и за собой, и за окружающими, и наглядно увидеть, как работает послепроизвольное внимание, и как другие типы взаимодействуют с ним.
О послепроизвольном внимании смотрите в видео.
внимание послепроизвольное — это… Что такое внимание послепроизвольное?
- внимание послепроизвольное
(внимание постпроизвольное)
— возникает на основе внимания произвольного и заключается в сосредоточении на объекте в силу его ценности, значимости или интереса для личности. Его появление возможно по мере развития операционально-технической стороны деятельности в связи с ее автоматизацией и с переходом действий в операции, а также в результате изменений мотивации (например, сдвиг мотива на цель). При этом снимается психическое напряжение и сохраняется сознательная целенаправленность внимания, соответствие направленности деятельности принятым целям, но ее выполнение уже не требует специальных умственных усилий и ограничено во времени лишь утомлением и истощением ресурсов организма.

Словарь практического психолога. — М.: АСТ, Харвест. С. Ю. Головин. 1998.
- внимание непроизвольное
- внимание произвольное
Смотреть что такое «внимание послепроизвольное» в других словарях:
ВНИМАНИЕ ПОСЛЕПРОИЗВОЛЬНОЕ — произвольное внимание, для сохранения которого не требуются усилия воли; В. п. имеет место, когда человек увлечен какой л. работой, занятием (см. Внимание произвольное) … Психомоторика: cловарь-справочник
внимание послепроизвольное — разновидность внимания, связанная с автоматизацией деятельности по концентрации сознания на определенном явлении, процессе и заменой в этой связи волевого усилия интересом, внутренней готовностью к восприятию именно данного явления, а не другого … Энциклопедический словарь по психологии и педагогике
внимание — сосредоточенность деятельности субъекта в данный момент времени на каком либо реальном или идеальном объекте (предмете, событии, образе, рассуждении и т.
 д.). Выделяют три вида В. Наиболее простым и генетически исходным является непроизвольное В … Большая психологическая энциклопедия
д.). Выделяют три вида В. Наиболее простым и генетически исходным является непроизвольное В … Большая психологическая энциклопедияВнимание — Внимание избирательная направленность восприятия на тот или иной объект. Изменение внимания выражается в изменении переживания степени ясности и отчетливости содержания, являющегося предметом деятельности человека. Внимание находит себе… … Википедия
ВНИМАНИЕ — характеристика психич. деятельности, выражающаяся в сосредоточенности и в направленности сознания на определ. объект. Под направленностью сознания понимается избират. характер психич. деятельности, осуществление выбора данного объекта из… … Философская энциклопедия
ВНИМАНИЕ — сосредоточенность познавательной и практической деятельности субъекта в данный момент времени на определенном объекте или действии. Физиологической основой В. является возникновение в коре головного мозга очага оптимальной возбудимости,… … Новейший философский словарь
Внимание — характеристика психической деятельности, выражающаяся в сосредоточенности и в направленности сознания на определённый объект.
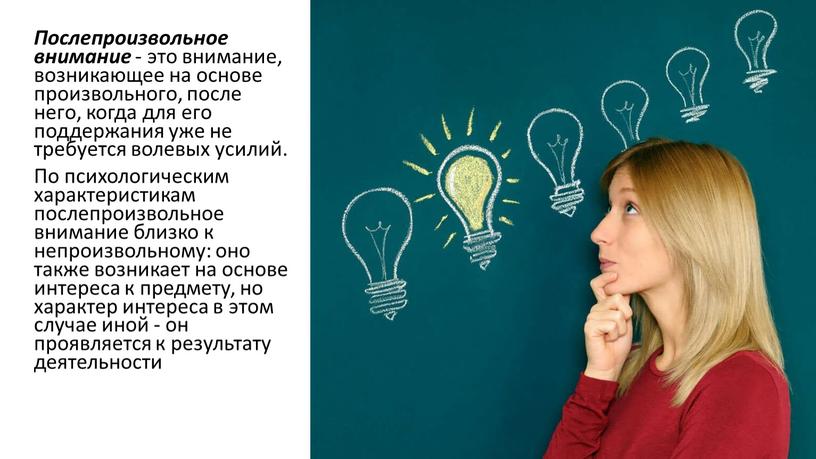 Под направленностью сознания понимается избирательный характер психической деятельности, осуществление в ней… … Большая советская энциклопедия
Под направленностью сознания понимается избирательный характер психической деятельности, осуществление в ней… … Большая советская энциклопедияВнимание — направленность и сосредоточенность психической деятельности на объекте или явлении, имеющем для индивида определенную значимость, в результате чего они отражаются полнее, отчетливее, глубже. Различают непроизвольное, произвольное,… … Психолого-педагогический словарь офицера воспитателя корабельного подразделения
ВНИМАНИЯ ВИДЫ — традиционно выделяют три вида внимания: непроизвольное, произвольное и послепроизвольное; кроме того, различают также внимание двигательное, или моторное; внимание непосредственное и опосредствованное; природное и социально обусловленное;… … Психомоторика: cловарь-справочник
Внимательность — ВНИМАНИЕ избирательная направленность на тот или иной объект, сосредоточение на нем. Наиболее известно определение, которое дал вниманию Уильям Джеймс: «Каждый знает, что такое внимание.
 Это когда разум охватывает в ясной и отчетливой форме… … Википедия
Это когда разум охватывает в ясной и отчетливой форме… … Википедия
31. Виды внимания. Шпаргалка по общей психологии
Читайте также
2.44. Отвлечение внимания
2.44. Отвлечение внимания Из пособия для стервы. Если мужчина во время беседы спрашивает вас о чем-то, что вы желали бы скрыть, используйте манипулятивную технику «отвлечение внимания»:– рассмейтесь (скорее всего, он спросит, чему вы смеетесь, и вы сможете легко перевести
РЕЦЕПТЫ ВНИМАНИЯ
РЕЦЕПТЫ ВНИМАНИЯ Внимание – это та единственная дверь нашей души, через которую все, что есть в сознании, непременно проходит.К. УШИНСКИЙНа фасаде главного здания в Колтушах И. П. Павлов велел высечь слово «наблюдательность», напоминая тем самым своим сотрудникам, сколь
31.
 Виды внимания
Виды внимания
31. Виды внимания По активности человека в организации внимания различают три вида внимания: непроизвольное, произвольное и послепроизвольное.Непроизвольное внимание – это сосредоточение сознания на объекте в силу его особенности как раздражителя.Более сильный
32. Свойства внимания
32. Свойства внимания Внимание характеризуется следующими свойствами: а) объемом; б) распределением; в) концентрацией; г) устойчивостью; д) переключением.Объем внимания измеряется тем количеством объектов, которое может быть охвачено вниманием в весьма ограниченный
Выработка устойчивого внимания, снижение агрессии и формирование произвольности у детей младшего школьного возраста, страдающих синдромом дефицита внимания с гиперактивностью.
 Психокоррекционная программа
Психокоррекционная программа
Выработка устойчивого внимания, снижение агрессии и формирование произвольности у детей младшего школьного возраста, страдающих синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. Психокоррекционная программа Пояснительная запискаСиндром дефицита внимания с
§27. Воспитание внимания
§27. Воспитание внимания Мы знаем, что внимание проявляется во всей нашей психической жизни. Поэтому хорошая работа внимания является обязательным условием, без которого невозможен успех ни в какой деятельности.Первое условие хорошего внимания — это наличие достаточно
54. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВНИМАНИЯ
54. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВНИМАНИЯ
В современной психологической науке принято выделять несколько основных видов внимания. По происхождению и способам осуществления обычно выделяют два основных вида внимания: непроизвольное и произвольное.Непроизвольное внимание является
По происхождению и способам осуществления обычно выделяют два основных вида внимания: непроизвольное и произвольное.Непроизвольное внимание является
Развитие внимания
Развитие внимания Человеческий организм от природы обладает огромными резервами для исцеления болезней. Но всегда ли он использует их в полной мере? К сожалению, нет. Если наше сознание «паникует» перед определенным недугом, организм нередко заболевает. Между тем
Виды внимания и типы невнимательности
Виды внимания и типы невнимательности В науке принято выделять 3 вида внимания: непроизвольное, произвольное и послепроизвольное. Особенности непроизвольного внимания видны уже из синонимов, которые используют отдельные психологи для определения этого вида внимания:
Основные виды внимания
Основные виды внимания
При изучении внимания необходимо различать два основных уровня, или вида, его и ряд его свойств или сторон.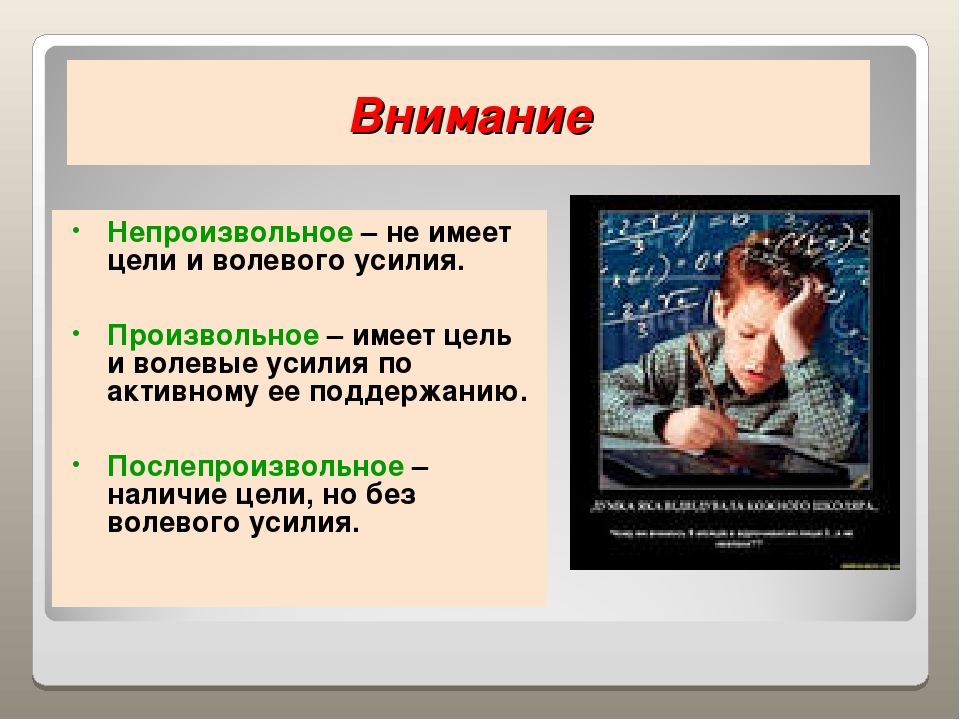 Основными видами внимания являются непроизвольноеи так называемое произвольноевнимание. Непроизвольное внимание связано с рефлекторными
Основными видами внимания являются непроизвольноеи так называемое произвольноевнимание. Непроизвольное внимание связано с рефлекторными
17. Исследования внимания
17. Исследования внимания Но в конце XIX и начале XX вв. понятие внимания начинает занимать все более значительное место в психологии. Оно служит для выражения активности сознания. Поэтому данное понятие используется для преодоления ассоционистского подхода, сводящего
Оскудение внимания
Оскудение внимания Ухудшение внимания среди взрослых также обходится дорого. Рекламщик одной крупной мексиканской радиокомпании жаловался: “Несколько лет назад можно было заказать в рекламном агентстве пятиминутный видеоролик о своем продукте. Сейчас нельзя
Восстановление внимания
Восстановление внимания
Редактор журнала Уильям Фалк рассказывал, как однажды, отдыхая с семьей на тропическом курорте, вдруг поймал себя на мысли, что не может оторваться от работы, хотя дочь ждала его, чтобы пойти на пляж. “Еще недавно мне и в голову не могло
“Еще недавно мне и в голову не могло
Блоки внимания
Блоки внимания Когда Далай-лама выступает перед большой аудиторией во время своих поездок по миру, рядом с ним можно зачастую увидеть Туптена Джинпу, его главного переводчика на английский язык. Пока Его Святейшество говорит на тибетском, Джинпа очень внимательно
УРОК № 7. Тема: Концентрация внимания. Переключение внимания. Объемное зрение.
УРОК № 7. Тема: Концентрация внимания. Переключение внимания. Объемное зрение. Этот урок состоит из трех частей. Каждую из них необходимо осваивать отдельно.Концентрация вниманияЭта тема уже частично знакома тебе. Все предыдущие уроки содержат в себе соответствующую
Послепроизвольное внимание — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Послепроизвольное внимание
Cтраница 1
Послепроизвольное внимание также имеет целенаправленный характер, но не является столь утомительным, как произвольное. Послепроизвольное внимание — при наличии четкой направленности сознания — существенно облегчает волевое напряжение. Это ярко проявляется на экзаменационных собеседованиях: после трудного начала последующее развитие ответа студента идет как бы по инерции.
[1]
Послепроизвольное внимание — при наличии четкой направленности сознания — существенно облегчает волевое напряжение. Это ярко проявляется на экзаменационных собеседованиях: после трудного начала последующее развитие ответа студента идет как бы по инерции.
[1]
Поэтому вопросы культуры непроизвольного внимания, совершенствования произвольного и послепроизвольного внимания должны быть сначала поняты; только тогда у студентов может появиться потребность в их развитии. А последнее будет практически мало результативным, если не станет предметом напряженного и интенсивного самовоспитания. Аналогично следует оценивать возможности и перспективы развития свойств внимания. Заметим также, что внимание и речь для человека, не искушенного в психологии, нередко представляются чем-то сопутствующим сознательному поведению ( рядоположным сознанию), а не его существенной стороной — осуществлением и направленностью психики в процессах деятельности и общения. [2]
[2]
При воспитании внимания в целом основной целью является послепроизвольное внимание, поскольку именно оно способствует увеличению количества и улучшению качества труда. [3]
Послепроизвольное внимание также имеет целенаправленный характер, но не является столь утомительным, как произвольное. Послепроизвольное внимание — при наличии четкой направленности сознания — существенно облегчает волевое напряжение. Это ярко проявляется на экзаменационных собеседованиях: после трудного начала последующее развитие ответа студента идет как бы по инерции. [4]
Иначе говоря, нужно добиваться наибольшей сосредоточенности при возможно меньшем утомлении. Кроме обычного чередования произвольного и непроизвольного внимания для уменьшения утомления применяется переход к послепроизвольному вниманию. [5]
Переход от произвольного внимания к послепроизвольному необходим, и практически он совершается на любых занятиях в школе и вузе.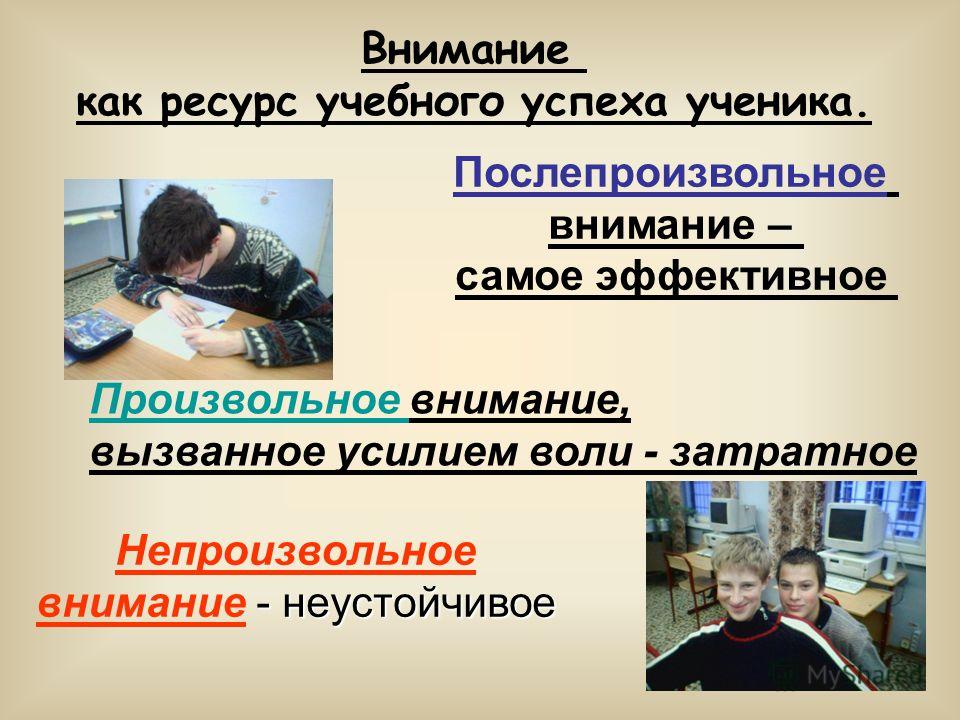 Интерес, вызывающий непроизвольное внимание к материалу, и общий волевой интерес к цели в произвольном внимании превращаются при послепроизвольном внимании в интерес к самому процессу работы. То, что требует волевых усилий при работе с произвольным вниманием, становится основой деятельности, переходит в устойчивое послепроизвольное внимание.
[6]
Интерес, вызывающий непроизвольное внимание к материалу, и общий волевой интерес к цели в произвольном внимании превращаются при послепроизвольном внимании в интерес к самому процессу работы. То, что требует волевых усилий при работе с произвольным вниманием, становится основой деятельности, переходит в устойчивое послепроизвольное внимание.
[6]
Явно эти особенности могут быть различными в признаках непроизвольного внимания; наглядно можно видеть вхождение представителей разных темпераментов в систему признаков произвольного внимания; менее очевидны эти явления в послепроизвольном внимании. Однако и в отношении внимания темпераментная специфика может быть и часто бывает маскирована или в значительной мере снята, во-первых, жесткими условиями деятельности и общения, во-вторых, воспитанностью человека, его интеллектуальным развитием. [7]
Переход от произвольного внимания к послепроизвольному необходим, и практически он совершается на любых занятиях в школе и вузе. Интерес, вызывающий непроизвольное внимание к материалу, и общий волевой интерес к цели в произвольном внимании превращаются при послепроизвольном внимании в интерес к самому процессу работы. То, что требует волевых усилий при работе с произвольным вниманием, становится основой деятельности, переходит в устойчивое послепроизвольное внимание.
[8]
Интерес, вызывающий непроизвольное внимание к материалу, и общий волевой интерес к цели в произвольном внимании превращаются при послепроизвольном внимании в интерес к самому процессу работы. То, что требует волевых усилий при работе с произвольным вниманием, становится основой деятельности, переходит в устойчивое послепроизвольное внимание.
[8]
Страницы: 1
Развитие внимания ребенка.
Один из самых распространенных вопросов, которые родители задают педагогам и психологам касается внимания детей. Родителей беспокоит невнимательность их малышей. При этом, говорят о невнимательности как родители годовалых, так и десятилетних детей.
Начнем с небольшого теоретического экскурса. Внимание – это направленность, сосредоточенность восприятия на объекте.
В психологии выделяют три вида внимания: непроизвольное, произвольное, послепроизвольное. Непроизвольное внимание не требует от человека каких-либо усилий и связано с характеристиками объекта. Непроизвольное внимание человека привлекают интенсивные стимулы (яркий свет, насыщенный цвет, громкий звук, что-то необычное, новое). В общем, привлекает все то, что не является обыденным. Произвольное внимание непосредственно связано с волевыми процессами и со способностью человека к саморегуляции. Произвольное внимание появляется тогда, когда у человека есть намерение что-то сделать, то есть, когда есть цель. Послепроизвольное внимание основано на интересе. Оно возникает на основе произвольного. Наверно, вам знакома ситуация, когда вы начинали что-то делать, заставив себя усилием воли, но потом заинтересовались делом и уже не чувствовали напряжения. Это включилось послепроизвольное внимание.
Непроизвольное внимание не требует от человека каких-либо усилий и связано с характеристиками объекта. Непроизвольное внимание человека привлекают интенсивные стимулы (яркий свет, насыщенный цвет, громкий звук, что-то необычное, новое). В общем, привлекает все то, что не является обыденным. Произвольное внимание непосредственно связано с волевыми процессами и со способностью человека к саморегуляции. Произвольное внимание появляется тогда, когда у человека есть намерение что-то сделать, то есть, когда есть цель. Послепроизвольное внимание основано на интересе. Оно возникает на основе произвольного. Наверно, вам знакома ситуация, когда вы начинали что-то делать, заставив себя усилием воли, но потом заинтересовались делом и уже не чувствовали напряжения. Это включилось послепроизвольное внимание.
Животные обладают только непроизвольным вниманием, у них нет произвольного и послепроизвольного внимание. Ребенок первого года жизни не обладает произвольным и послепроизвольным вниманием. Произвольное внимание социально по своей природе, оно не может развиться у ребенка без контакта со взрослыми.
Произвольное внимание социально по своей природе, оно не может развиться у ребенка без контакта со взрослыми.
Как же развивается внимание ребенка? Изначально внимание у ребенка реализуется с помощью наследственных механизмов. Так, ребенок на некоторое время задерживает дыхание и затормаживает движения, что служит подготовкой к действию. Непроизвольное внимание ребенка младенческого возраста можно наблюдать, когда ребенок реагирует на новую игрушку, тянется к яркому платку бабушки, когда его взгляд останавливается на знакомых лицах или когда он следит за движением кошки. Примерно до 10 месяцев у ребенка нет даже зачатков произвольного внимания, постепенно произвольное внимание начинает развиваться и далее всю жизнь произвольное внимание будет сопутствовать непроизвольному. Первые проявления произвольного внимания мы можем наблюдать у ребенка тогда, когда взрослый указывает жестом или голосом на какой-то предмет, а ребенок переводит взгляд на обозначенный предмет. Как мы уже упоминали, при непроизвольном внимании объект выделяется из среды за счет интенсивности (яркость, громкость). В данном случае ребенок направляет внимание на объект, который, может быть, не отличается интенсивностью. Ребенок начинает подчиняться речи и жестам взрослого. Это проявление зачатков произвольного внимания, саморегуляции, волевых процессов. На втором-третьем году жизни ребенка эта простейшая форма произвольного внимания активно развивается. К возрасту 4-5 лет ребенок постепенно учится направлять свое внимание на предмет (действие), следуя сложной инструкции взрослого. Примерно в 5-6 лет ребенок появляется новая форма произвольного внимания: ребенок направляет внимание на объект с помощью самоинструкции. И только в школьном возрасте развиваются волевые процессы. Произвольность – это новообразование школьного возраста. Именно поэтом рекомендуемым возрастом для начала школьного обучения является семилетний, а не, скажем, пятилетний возраст.
В данном случае ребенок направляет внимание на объект, который, может быть, не отличается интенсивностью. Ребенок начинает подчиняться речи и жестам взрослого. Это проявление зачатков произвольного внимания, саморегуляции, волевых процессов. На втором-третьем году жизни ребенка эта простейшая форма произвольного внимания активно развивается. К возрасту 4-5 лет ребенок постепенно учится направлять свое внимание на предмет (действие), следуя сложной инструкции взрослого. Примерно в 5-6 лет ребенок появляется новая форма произвольного внимания: ребенок направляет внимание на объект с помощью самоинструкции. И только в школьном возрасте развиваются волевые процессы. Произвольность – это новообразование школьного возраста. Именно поэтом рекомендуемым возрастом для начала школьного обучения является семилетний, а не, скажем, пятилетний возраст.
Вернемся же к вопросу о невнимательности ребенка. Невнимательными называют детей, которые не могу долго сосредоточить внимание на одном объекте.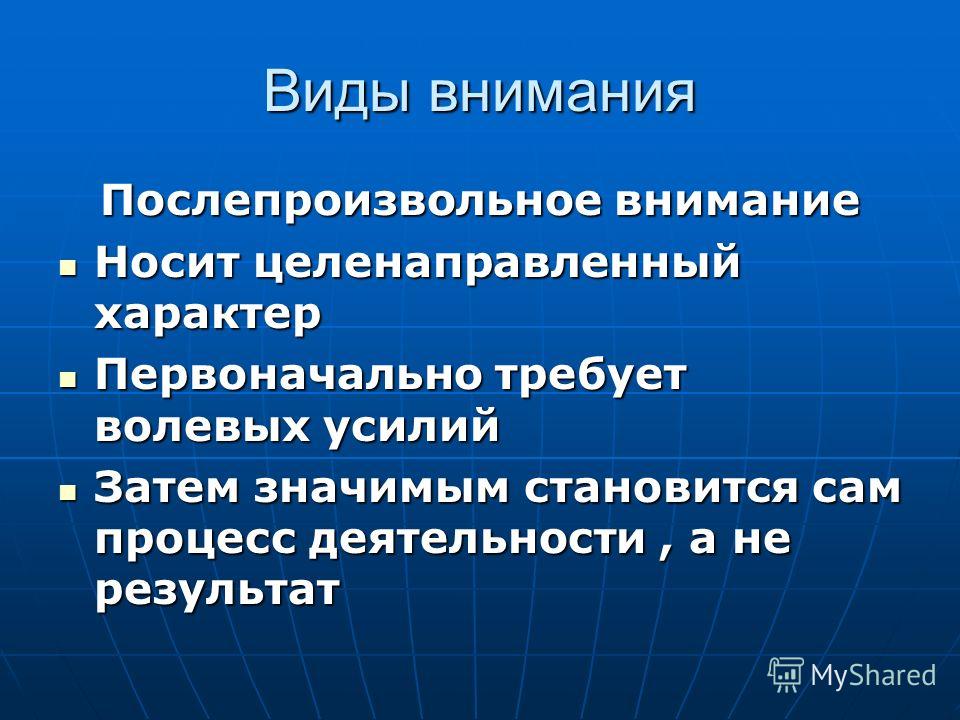 Чаще всего, речь идет о выполнении заданий учебного характера. Например, ребенок-дошкольник не может долго сидеть и писать закорючки, считать и решать логические задачки. Однако давайте остановимся на том, что значит «долго». Действительно, родителям может казаться, что ребенок невнимательный. Однако нередко у родителей завышенные требования по отношению к детям. Психологические исследования позволили определить устойчивость произвольного внимания у детей. Было выяснено, как долго дети могут сосредоточиться на одной игре. Выяснилось, что дети разного возраста могут сосредотачиваться разное время. Полугодовалый ребенок играет в одну игру не более 14 минут, а ребенок к шести лет до полутора часов. Эти данные, кстати, очень полезно знать тем родителям, которые жалуются на то, что ребенок не играет один. Нередко родители считают, что двухлетний ребенок мог бы занять себя и в течение часа. Однако это невозможно. С возрастом развивается также и концентрация внимания ребенка. Это значит, что подрастая, ребенок начинает меньше отвлекаться от своей деятельности.
Чаще всего, речь идет о выполнении заданий учебного характера. Например, ребенок-дошкольник не может долго сидеть и писать закорючки, считать и решать логические задачки. Однако давайте остановимся на том, что значит «долго». Действительно, родителям может казаться, что ребенок невнимательный. Однако нередко у родителей завышенные требования по отношению к детям. Психологические исследования позволили определить устойчивость произвольного внимания у детей. Было выяснено, как долго дети могут сосредоточиться на одной игре. Выяснилось, что дети разного возраста могут сосредотачиваться разное время. Полугодовалый ребенок играет в одну игру не более 14 минут, а ребенок к шести лет до полутора часов. Эти данные, кстати, очень полезно знать тем родителям, которые жалуются на то, что ребенок не играет один. Нередко родители считают, что двухлетний ребенок мог бы занять себя и в течение часа. Однако это невозможно. С возрастом развивается также и концентрация внимания ребенка. Это значит, что подрастая, ребенок начинает меньше отвлекаться от своей деятельности. Выяснено, что за десяминутную игру трехлетний ребенок отвлекается примерно четыре раза, а шестилетний — один раз.
Выяснено, что за десяминутную игру трехлетний ребенок отвлекается примерно четыре раза, а шестилетний — один раз.
Итак, какие выводы мы можем сделать? Занятия с дошкольниками не должны быть длительными. Так как внимание ребенка не может долго удерживаться на одном объекте (задании), в течение каждого занятия задания должны чередоваться. Каждое новое задание «включает» непроизвольное внимание (новизна объекта), поэтому важно, чтобы пособия привлекали внимание ребенка формами, цветом или другими характеристиками. Взрослый, давая инструкцию, запускает произвольное внимание ребенка. Если задание интересно ребенку, то через некоторое время включается послепроизвольное внимание и тогда ребенок довольно долго может заниматься интересным для него делом. Следовательно, важно предлагать ребенку такие задания, которые могут оказаться для него интересными.
А теперь обратимся к занятиям в системе Монтессори. Учитываются ли характеристики внимания детей на занятиях по системе Марии Монтессори?
Итак, дети заходят в Монтессори класс.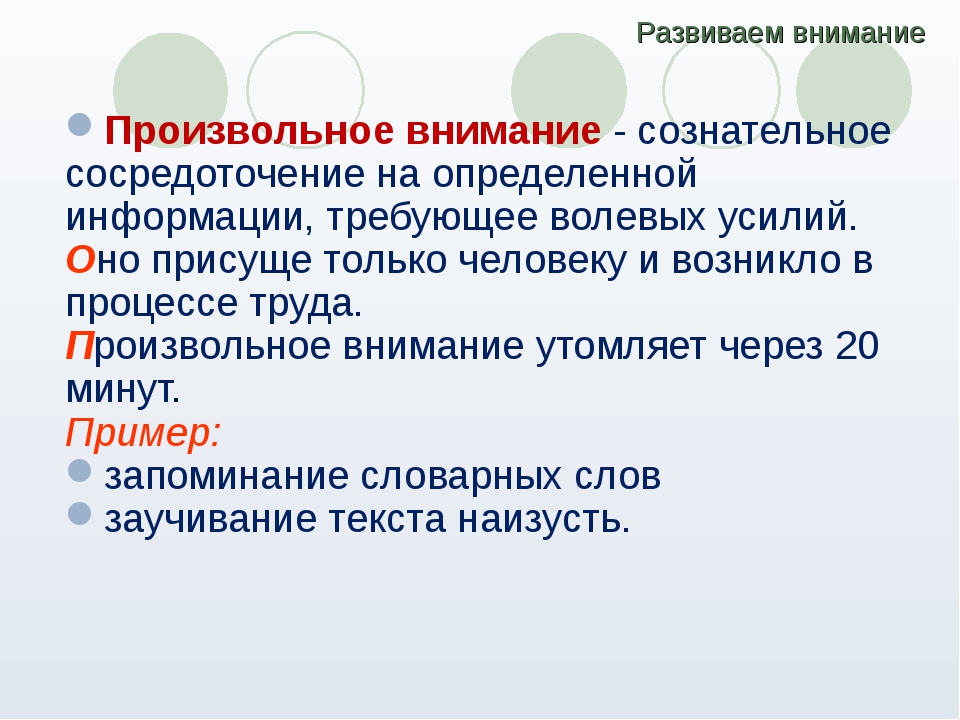 Для ребенка, который попал в класс впервые, в классе много нового и необычного. Пособия привлекают непроизвольное внимание ребенка своей новизной (яркость цвета, необычные формы). Ребенок берет то пособие, которое ему приглянулось и начинает работать. Может быть, новичок замрет на некоторое время в нерешительности. Ведь кругом так много интересного! Его глаза будут бегать от одного пособия к другому. И вдруг он видит ребенка, который уже работает. И это что-то новое. Ребенок может начать наблюдать за другими детьми. Большое количество новых привлекательных пособий помогает ребенку адаптироваться в среде. Ведь хочется поработать с каждым материалом, а это невозможно за один день. И тогда ребенок в нетерпении ждет следующего дня, чтобы снова прийти в класс и поработать с новым материалом, а, может быть, и с тем, с которым он уже знаком.
Для ребенка, который попал в класс впервые, в классе много нового и необычного. Пособия привлекают непроизвольное внимание ребенка своей новизной (яркость цвета, необычные формы). Ребенок берет то пособие, которое ему приглянулось и начинает работать. Может быть, новичок замрет на некоторое время в нерешительности. Ведь кругом так много интересного! Его глаза будут бегать от одного пособия к другому. И вдруг он видит ребенка, который уже работает. И это что-то новое. Ребенок может начать наблюдать за другими детьми. Большое количество новых привлекательных пособий помогает ребенку адаптироваться в среде. Ведь хочется поработать с каждым материалом, а это невозможно за один день. И тогда ребенок в нетерпении ждет следующего дня, чтобы снова прийти в класс и поработать с новым материалом, а, может быть, и с тем, с которым он уже знаком.
Итак, выбирает материал для работы ребенок на основе непроизвольного внимания (яркость материала, необычность формы и т.д.). Если материал не слишком заинтересовал ребенка, то как только новизна объекта проходит, ребенок берет следующий материал. Бывает, что ребенок занимается с одним пособием всего несколько минут. Это совершенно нормально, если на протяжении занятия ребенок поработает с несколькими пособиями. Обычно именно так и делают новички. Дети с синдромом дефицита внимания тоже немного времени уделяют одному пособию, это особенность их внимания.
Бывает, что ребенок занимается с одним пособием всего несколько минут. Это совершенно нормально, если на протяжении занятия ребенок поработает с несколькими пособиями. Обычно именно так и делают новички. Дети с синдромом дефицита внимания тоже немного времени уделяют одному пособию, это особенность их внимания.
Монтессори-материалы обладают уникальной особенностью. Они привлекают непроизвольное внимание и у детей, и у взрослых. Их так и хочется взять в руки. Нередко родители говорят о том, что сами бы с удовольствием поработали бы в классе. Да и сами наставники с радостью работают в классе, проводя презентации для воспитанников. При работе с материалом у детей почти всегда появляется интерес, то есть, появляется послепроизвольное внимание. И особенность материалов Монтессори как раз в том, что обычно естественно происходит переход от непроизвольного внимания (новизна) к послепроизвольному (интерес). Таким образом маленький ребенок, у которого еще не развито произвольное внимание, может эффективно заниматься в среде достаточно продолжительное время. Как только ребенок удовлетворяет собственный интерес, то послепроизвольное внимание пропадает. После этого ребенок может заинтересоваться другим пособием. Важно, что занятие строится таким образом, что ребенок может работать с материалом именно столько, сколько нужно ему.
Как только ребенок удовлетворяет собственный интерес, то послепроизвольное внимание пропадает. После этого ребенок может заинтересоваться другим пособием. Важно, что занятие строится таким образом, что ребенок может работать с материалом именно столько, сколько нужно ему.
Но тогда остается открытым вопрос. А не случится ли так, что у ребенка, который занимается по системе Монтессори, вообще не разовьется произвольное внимание? Это оправданное опасение, ведь без произвольного внимания невозможно обучение в школе. Давайте разберемся в этом вопросе. Произвольное внимание в среде Монтессори совершенно необходимо. Как известно, одним из важных этапов работы является презентация. Презентацию проводит наставник или воспитанник. Работать с материалом, не получив презентации, крайне затруднительно. Значит, ребенок должен направить свое внимание на слова и действия наставника. Следовательно, ребенку необходимо произвольное внимание. Значит, уже самые младшие дети в Монтессори среде учатся управлять своим поведением. А более старшие дети сами делают презентации. Для этого тоже необходимо произвольное внимание. Ведь нужно представить пособие, рассказать, как с ним работать. Это не самая простая задача для ребенка.
А более старшие дети сами делают презентации. Для этого тоже необходимо произвольное внимание. Ведь нужно представить пособие, рассказать, как с ним работать. Это не самая простая задача для ребенка.
Произвольность в системе Мотессори проявляется и тогда, когда ребенок усилием воли завершает задание. Иногда бывает, что работа от начала до конца строится только на интересе. Но это преимущественно касается детей младшего возраста. На этом строятся задания сенсорной зоны. А вот задания, которые предназначены для детей среднего и старшего дошкольного возраста (зона математики, космоса, родного языка), далеко не всегда просты. Чтобы завершить задание, ребенку порой необходимо активизировать волевые процессы, «включить» произвольное внимание. Наставники учат ребенка не бросать работу, которая не доделана. И ребенок старательно завершает ее.
Что касается развития внимания, то в среде Монтессори ребенок без особого труда, в естественной развивающей среде учится управлять собственным поведением. Это связано с тем, что вся система в целом и пособия в частности учитывают все особенности развития психических процессов детей. Это система, созданная для детей.
Это связано с тем, что вся система в целом и пособия в частности учитывают все особенности развития психических процессов детей. Это система, созданная для детей.
Автор: Гусева Ю.
Управление персоналом, образование, личное развитие. Тесты. Внимание. Память. IQ-тесты. Effecton Studio. Эффектон
Виды внимания
Рассмотрим основные виды внимания. Это
- природное и социально обусловленное внимание,
- непосредственное и опосредствованное внимание,
- непроизвольное и произвольное внимание,
- чувственное и интеллектуальное внимание.
Природное внимание дано человеку со дня его рождения как врожденная способность избирательно реагировать на те или иные внешние или внутренние стимулы, несущие в себе элементы информационной новизны.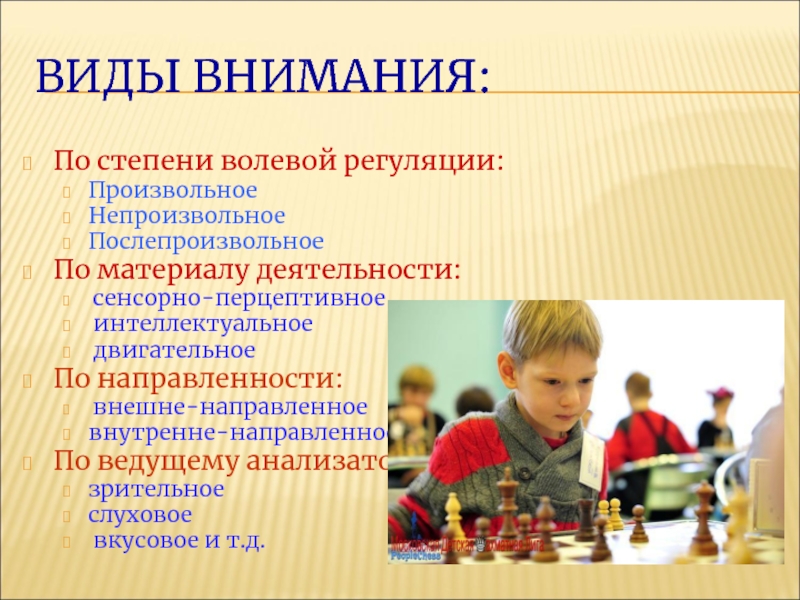 Основной механизм, обеспечивающий работу такого внимания, называется ориентировочным рефлексом.
Основной механизм, обеспечивающий работу такого внимания, называется ориентировочным рефлексом.
Социально обусловленное внимание складывается в результате жизненного опыта, обучения и воспитания, связано с волевой регуляцией поведения, с сознательным избирательным реагированием на объекты.
Непосредственное внимание не управляется ничем, кроме того объекта, на который оно направлено и который соответствует актуальным интересам и потребностям человека.
Опосредствованное внимание регулируется с помощью специальных средств, например жестов, слов, указательных знаков, предметов.
В самом деле, трудно заставить себя быть внимательным к чему-то, с чем ничего нельзя сделать, что не вызывает нашей внешней или внутренней активности. Но есть предметы и явления, которые как бы приковывают к себе внимание, иногда даже вопреки нашему желанию. В одном случае надо заставить себя быть внимательным, а в другом — предмет как бы сам обеспечивает внимание, заставляет на себя смотреть, слушать и т.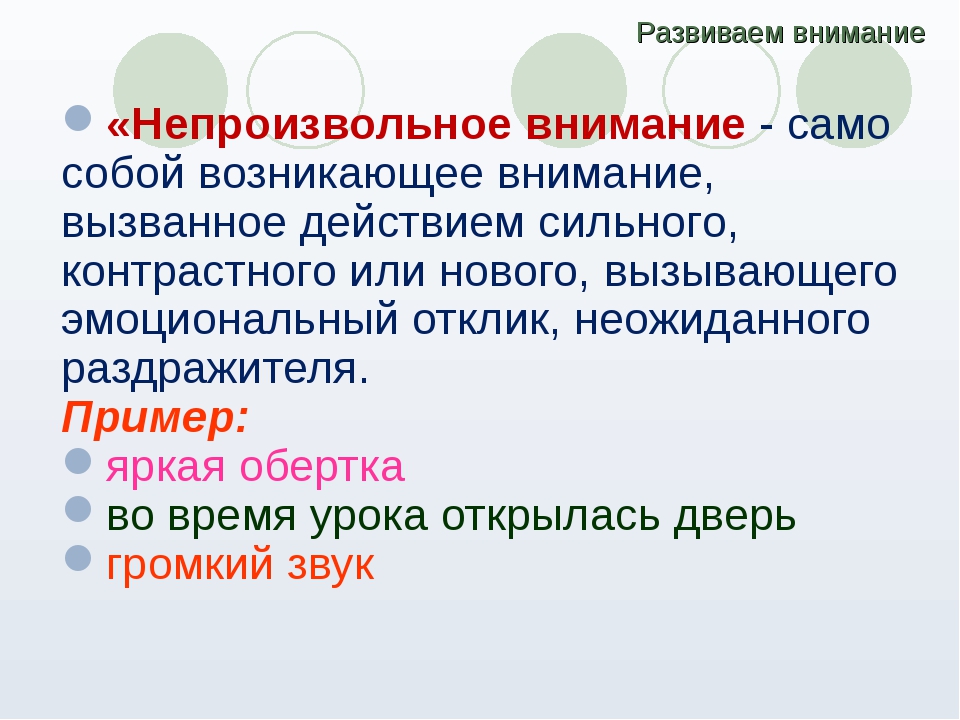 д.
д.
Здесь можно сказать о двух различающихся видах внимания — непроизвольном и произвольном внимании. Непроизвольное (пассивное) внимание, в возникновении которого наше намерение не принимает участия, и произвольное (активное), возникающее благодаря нашему намерению, вследствие приложения нами усилия воли. Таким образом, само запоминается то, на что направлено непроизвольное внимание; то, что надо запомнить, нуждается в произвольном внимании.
Непроизвольное внимание
Непроизвольное внимание — более низкая форма внимания, которое возникает в результате воздействия раздражителя на какой-либо из анализаторов. Оно образуется по закону ориентировочного рефлекса и общее для человека и животных.
Возникновение непроизвольного внимания может быть вызвано особенностью воздействующего раздражителя, а также обусловливаться соответствием этих раздражителей прошлому опыту или психическому состоянию человека.
Иногда непроизвольное внимание может быть полезным, как в работе, так и в быту, оно дает нам возможность своевременно выявить появление раздражителя и принять необходимые меры, и облегчает включение в привычную деятельность.
Но в то же время непроизвольное внимание может иметь отрицательное значение для успеха выполняемой деятельности, отвлекая нас от главного в решаемой задаче, снижая продуктивность работы в целом. Например, необычный шум, выкрики и вспышки света во время работы отвлекают наше внимание и мешают сосредоточиться.
Причины возникновения непроизвольного внимания
Причинами возникновения непроизвольного внимания могут быть:
Неожиданность раздражителя.
Относительная сила раздражителя.
Новизна раздражителя.
Движущиеся предметы. Т. Рибо выделил именно этот фактор, считая, что в результате целенаправленной активизации движений происходит концентрация и усиление внимания на предмете.
Контрастность предметов или явлений.
Внутреннее состояние человека.
Французский психолог Т. Рибо писал, что характер непроизвольного внимания коренится в глубоких тайниках нашего существа. Направление непроизвольного внимания данного лица обличает его характер или, по меньшей мере, его стремления.
Направление непроизвольного внимания данного лица обличает его характер или, по меньшей мере, его стремления.
Основываясь на этом признаке, мы можем вывести заключение относительно данного лица, что это человек легкомысленный, банальный, ограниченный, или чистосердечный и глубокий. Красивый пейзаж привлекает внимание художника, действуя на его эстетическое чувство, тогда как местный житель в этом же пейзаже видит лишь что-то обыденное.
Произвольное внимание
Если Вы скажете мне, на что Вы обращаете внимание, то я смогу определить кто Вы: прагматик или высоко духовная личность. Здесь речь идет уже о другом виде внимания — произвольном, преднамеренном, активном.
Если внимание непроизвольное есть и у животных, то произвольное внимание возможно только у человека, и возникло оно благодаря сознательной трудовой деятельности. Для достижения определенной цели человеку приходится заниматься не только тем, что само по себе интересно, приятно, занимательно, делать не только то, что хочется, но и то, что необходимо.
Произвольное внимание более сложное и свойственное только человеку формируется в процессе обучения: в быту, в школе, в труде. Оно характерно тем, что направляется на объект под влиянием нашего намерения и поставленной цели. Здесь все просто, нужно поставить цель: «Мне надо быть внимательным, и я заставлю себя быть внимательным, несмотря ни на что», и упорно идти к этой цели.
Физиологический механизм произвольного внимания
Физиологическим механизмом произвольного внимания служит очаг оптимального возбуждения в коре мозга, поддерживаемый сигналами, идущими от второй сигнальной системы. Отсюда очевидна роль слова родителей или преподавателя для формирования у ребенка произвольного внимания.
Возникновение произвольного внимания у человека исторически связано с процессом труда, т.к. без управления своим вниманием невозможно осуществлять сознательную и планомерную деятельность.
Психологическая особенность произвольного внимания
Психологической особенностью произвольного внимания является сопровождение его переживанием большего или меньшего волевого усилия, напряжения, причем длительное поддерживание произвольного внимания вызывает утомление, зачастую даже большее, чем физическое напряжение.
Полезно чередовать сильную концентрацию внимания с менее напряженной работой, путем переключения на более легкие или интересные виды действия или же вызвать у человека сильный интерес к делу, требующему напряженного внимания.
Человек прилагает значительное усилие воли, концентрирует свое внимание, понимает содержание необходимое для себя и уже дальше без волевого напряжения внимательно следит за изучаемым материалом.
Его внимание становится теперь вторично непроизвольным, или после-произвольным. Оно будет значительно облегчать процесс усвоения знаний, и предупреждать развитие утомления.
Внешне- и внутренне-направленное внимание
Внимание может быть обращено либо на объекты внешнего мира, либо на мысли, чувства, воспоминания. По этому признаку различают внешне- и внутренне-направленное внимание.
Если у человека во время выполнения какого-либо задания всплывают в памяти воспоминания, отвлекающие его от основного занятия, — это будет непроизвольное внутренне-направленное внимание.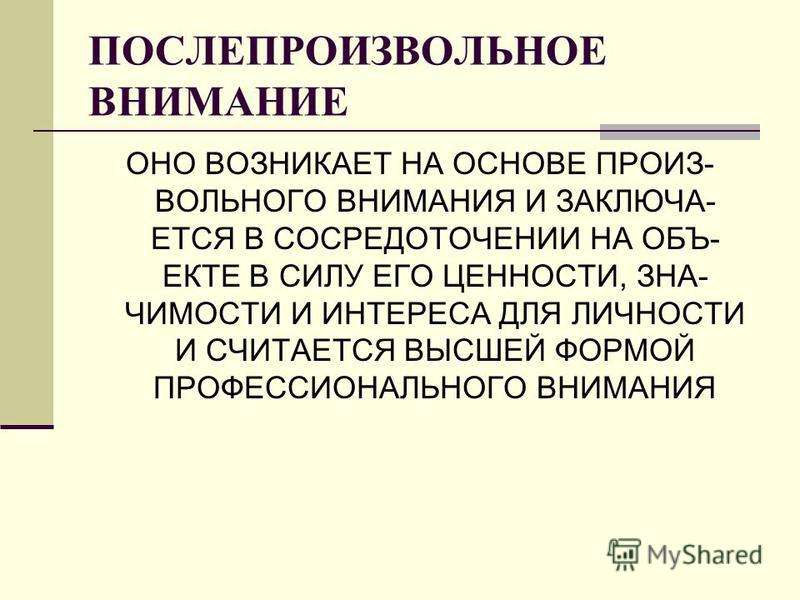 Иногда непроизвольное, но интенсивное внутренне-направленное внимание может обусловливать невнимательность человека.
Иногда непроизвольное, но интенсивное внутренне-направленное внимание может обусловливать невнимательность человека.
Произвольное внимание выделяет из всей массы явлений, действующих на анализаторы, только ту ее часть, которая должна занять центральное место в деятельности человека. Однако эта часть не всегда одинакова по объему. Она различна в одних и тех же обстоятельствах у разных людей и у одного и того же человека в различных условиях.
Волевая регуляция внимания
Непроизвольное внимание не связано с участием воли, а произвольное обязательно включает волевую регуляцию. Непроизвольное внимание не требует усилий для того, чтобы удерживать и в течение определенного времени сосредоточивать на чем-то внимание, а произвольное требует этого.
Наконец, произвольное внимание в отличие от непроизвольного обычно связано с борьбой мотивов или побуждений, наличием сильных противоположно направленных и конкурирующих друг с другом интересов, каждый из которых сам по себе способен привлечь и удерживать внимание. Человек же в этом случае осуществляет сознательный выбор цели и усилием воли подавляет один из интересов, направляя все свое внимание на удовлетворение другого.
Человек же в этом случае осуществляет сознательный выбор цели и усилием воли подавляет один из интересов, направляя все свое внимание на удовлетворение другого.
Благоприятные условия работы
Вряд ли удастся сосредоточиться, если во всю мощность ревет включенный магнитофон, телевизор или рядом друзья обсуждают интересную, но постороннюю по отношению к вашей работе проблему. Однако не возможно добиться полной тишины и не стоит терроризировать окружающих, требованием замолчать. Иногда стремление избавиться от отвлекающих раздражителей становится болезненным.
Очень важно найти свой, т.е. наиболее благоприятный именно для Вас, режим, ритм и внешние условия работы. Обычно такой стиль вырабатывается сам собой, хотя иногда его приходится искать методом проб и ошибок.
Раздражители могут порой не только не мешать работе, но даже помогать концентрации внимания. Когда в центральной нервной системе существует доминирующее возбуждение, то посторонние слабые раздражители создают дополнительные субдоминантные очаги, которые как бы притягиваются к главному, отдают ему свою энергию, усиливают, укрепляют доминанту. Поэтому тихая музыка, рабочий шум, нормальные уличные шумы часто помогают сосредоточиться.
Поэтому тихая музыка, рабочий шум, нормальные уличные шумы часто помогают сосредоточиться.
Наконец, можно различать чувственное и интеллектуальное внимание. Первое по преимуществу связано с эмоциями и избирательной работой органов чувств, а второе — с сосредоточенностью и направленностью мысли. При чувственном внимании в центре сознания находится какое-либо чувственное впечатление, а в интеллектуальном внимании объектом интереса является мысль.
Необходимо отметить такую особенность внимания, которая как бы связывает все другие психические явления, где оно проявляется, и не сводится к моментам различных видов деятельности человека. В любой сознательной деятельности постоянно переплетаются все виды внимания.
Эксклюзивный материал сайта «www.effecton.ru — психологические тесты и коррекционные программы». Заимствование текста и/или связанных материалов возможно только при наличии прямой и хорошо различимой ссылки на оригинал. Все права защищены.
Основные виды и механизмы внимания
По происхождению и способам осуществления специалисты выделяют такие виды внимания – непроизвольное, произвольное и послепроизвольное. Направленность и сосредоточенность психической деятельности в зависимости от участия воли, может носить непроизвольный или произвольный характер. Наиболее простое и генетически исходное непроизвольное внимание называют пассивным, вынужденным, потому что возникает оно независимо от целей, стоящих перед человеком. Направленность и сосредоточенность психических процессов будет носить произвольный характер, если человек знает, что ему необходимо выполнить определенную работу в соответствии с поставленной целью и принятым решением.
Направленность и сосредоточенность психической деятельности в зависимости от участия воли, может носить непроизвольный или произвольный характер. Наиболее простое и генетически исходное непроизвольное внимание называют пассивным, вынужденным, потому что возникает оно независимо от целей, стоящих перед человеком. Направленность и сосредоточенность психических процессов будет носить произвольный характер, если человек знает, что ему необходимо выполнить определенную работу в соответствии с поставленной целью и принятым решением.
Непроизвольное внимание является наиболее древним видом внимания. Его возникновение связано с различными физическими, психофизиологическими и психическими причинами, которые тоже между собой тесно связаны, но их для удобства разделили на категории:
Произвольное внимание
Произвольное внимание отличается от непроизвольного внимания тем, что оно управляется сознательной целью и имеет усилия по активному её поддержанию. Выработан был этот вид внимания в результате трудовых усилий, поэтому его часто называют волевым, активным, преднамеренным.
Например, внимание человека сознательно направляется на решение заняться какой-либо деятельностью, даже если это не интересно. Произвольное внимание в каком-то смысле это подавление, борьба с непроизвольным вниманием.
Активное регулирование протекания психических процессов является основной функцией произвольного внимания, поэтому оно качественно отличается от непроизвольного внимания. Произвольное внимание возникло из непроизвольного в процессе сознательной деятельности человека. С его помощью можно менять эмоциональной состояние.
Произвольное внимание имеет социальные причины своего происхождения, оно не созревает в организме, а формируется при общении ребенка с взрослыми. Выделяя объект из среды, взрослый указывает на него и называет словом. Отвечая на этот сигнал, ребенок слово повторяет или схватывает сам предмет. Получается, что данный предмет для ребенка выделяется из внешнего поля.
Произвольное внимание тесно связано с речью, чувствами, интересами, прежним опытом человека, но влияние их косвенное.
Формирование произвольного внимания связано с формированием сознания. У 2-летнего ребенка сознание еще не сформировано, то и произвольное внимание находится в стадии развития.
Послепроизвольное внимание
Специалисты выделяют еще один вид внимания, которое носит целенаправленный характер и первоначально требует волевых усилий. Позже человек, как бы «входит» в работу, для него значимыми и интересными становятся не только результат, но и содержание, и процесс деятельности.
Такое внимание Н.Ф. Добрынин назвал послепроизвольным. Например, при решении какой-то сложной задачи, ученик решает её только потому, что её надо решить. Когда намечен правильный ход и задача становится понятной, её решение может увлечь. Произвольное внимание стало как бы непроизвольным. Послепроизвольное внимание остается связанным с сознательными целями и поддерживается сознательными интересами, что отличает его от подлинно непроизвольного внимания. Поскольку здесь нет или почти нет волевых усилий, то оно не будет сходно и с произвольным вниманием. Для послепроизвольного внимания характерна длительная сосредоточенность, напряженная умственная деятельность, высокая производительность труда.
Для послепроизвольного внимания характерна длительная сосредоточенность, напряженная умственная деятельность, высокая производительность труда.
Виды внимания показаны на схеме.
Механизмы внимания
В результате исследований советских и зарубежных ученых было получено много новых данных, которые раскрывают нейрофизиологические механизмы протекания явлений внимания. Сущность внимания заключается в селективном отборе воздействий. Согласно полученным данным это возможно на фоне общего бодрствования организма, связанного с активной мозговой деятельностью.
В состоянии бодрствования человека можно выделить целый ряд стадий. Например, постепенно глубокий сон может смениться дремотным состоянием, которое перейдет в состояние спокойного бодрствования. Это состояние называют расслабленным или сенсорным покоем. На смену расслабленному состоянию может прийти высокий уровень бодрствования – активное бодрствование или бодрствование внимания, которое переходит в состояние резкого эмоционального возбуждения, страха, беспокойства – это так называемое чрезмерное бодрствование.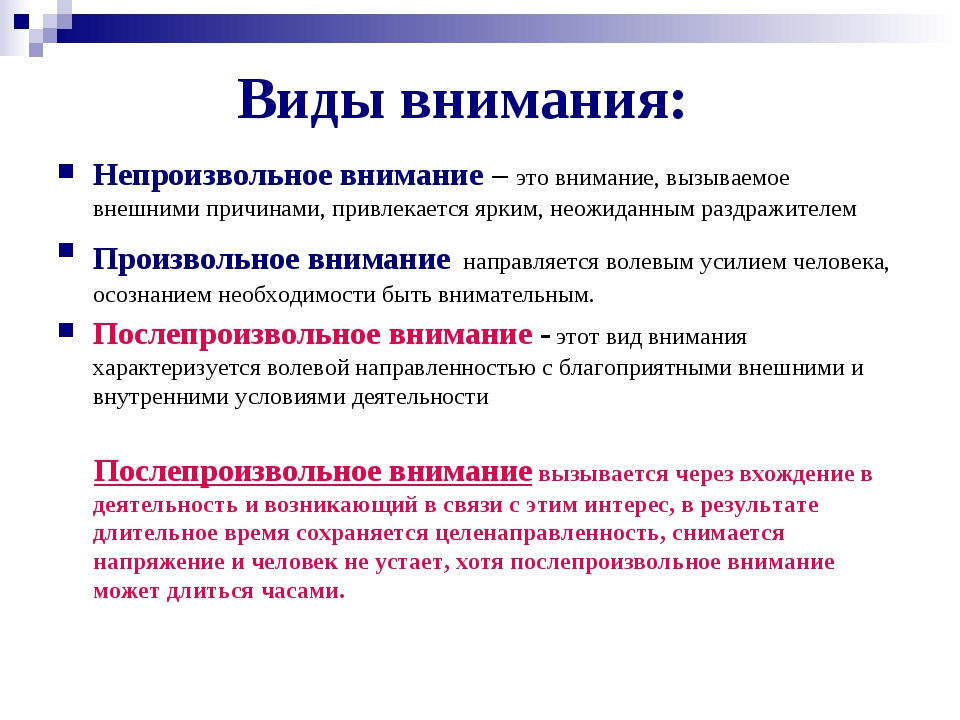
При состоянии повышенного бодрствования активное избирательное внимание возможно, а вот трудности сосредоточения возникают и на фоне расслабленного и на фоне чрезмерного бодрствования. Подобные изменения бодрствования непрерывны и являются функцией уровней активности нервных процессов. Любая нервная активация выражается в усилении бодрствования, а её показателем является изменение электрической активности мозга.
В различных ориентировочных реакциях проявляется переход от спокойного бодрствования к бодрствованию внимания. Реакции эти очень сложны и связаны с активностью значительной части организма. В этот ориентировочный комплекс входят:
- Внешние движения;
- Изменение чувствительности определенных анализаторов;
- Изменение характера обмена веществ;
- Изменение сердечных, сосудистых и кожно-гальванических реакций;
- Изменение электрической активности мозга.
Физиологической основой внимания, таким образом, является общая активация деятельности мозга, но она не объясняет особенностей избирательного протекания процессов внимания.
Для выяснения физиологических основ внимания большое значение имеет принцип доминанты А.А. Ухтомского, согласно которому в мозге всегда есть доминирующий очаг возбуждения. Все возбуждения, которые идут в мозг, он привлекает к себе и доминирует над ними.
Такой очаг возникает не только в результате силы данного раздражителя, но и внутреннего состояния всей нервной системы.
В регуляции высших произвольных форм внимания, как считают многие исследователи, большую роль играют и лобные доли мозга.
Согласно современным данным, таким образом, процессы внимания связаны как с корой, так и подкорковыми образованиями, только роль их в регуляции разных форм внимания различна.
Влияние возраста и разделения внимания на спонтанное узнавание
Элли, Б. А., Уоринг, Дж. Д., Бет, Э. Х., МакКивер, Дж. Д., Миллберг, В. П., и Бадсон, А. Е. (2008). Старение памяти для изображений: использование потенциалов высокой плотности, связанных с событиями, для понимания влияния старения на эффект превосходства изображения и динамику памяти распознавания. Neuropsychologia, 46 , 679–689.
Neuropsychologia, 46 , 679–689.
PubMed Статья Google ученый
Андерсон, Н.Д., Крейк, Ф. И. М., и Навех-Бенджамин, М. (1998). Требования к кодированию и извлечению внимания у молодых и пожилых людей: 1. Доказательства затрат на разделенное внимание. Психология и старение, 13 , 405–423.
PubMed Статья Google ученый
Болл, К. Т. и Литтл, Дж. Р. (2006). Сравнение непроизвольных извлечений из памяти. Прикладная когнитивная психология, 20 , 1167–1179.
Артикул Google ученый
Балота, Д.A., Cortese, M.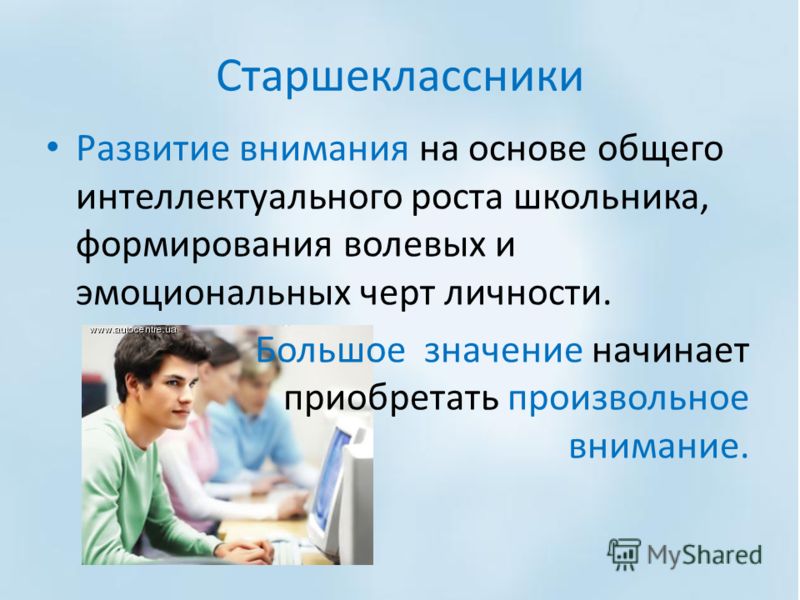 J., Duchek, J. M., Adams, D., Roediger, H. L., III, McDermott, K. B., et al. (1999). Правдоподобные и ложные воспоминания у здоровых пожилых людей и при деменции типа Альцгеймера. Когнитивная нейропсихология, 16 , 361–384.
J., Duchek, J. M., Adams, D., Roediger, H. L., III, McDermott, K. B., et al. (1999). Правдоподобные и ложные воспоминания у здоровых пожилых людей и при деменции типа Альцгеймера. Когнитивная нейропсихология, 16 , 361–384.
Артикул Google ученый
Балота, Д. А., Яп, М. Дж., Кортезе, М. Дж., Хатчисон, К. И., Кесслер, Б., Лофтис, Б. и др. (2007). Проект английской лексики. Методы исследования поведения, 39 , 445–459.
PubMed Статья Google ученый
Бернтсен, Д. (2007). Непроизвольные автобиографические воспоминания: предположения, открытия и попытка их интегрировать. В J. H. Mace (Ed.), Непроизвольная память (стр. 20–49). Мальден, Массачусетс: Блэквелл.
Google ученый
Бернтсен, Д. (2010). Непрошеное прошлое: Непроизвольные автобиографические воспоминания как основной способ запоминания. Текущие направления в психологической науке, 19 (3), 138–142.
Артикул Google ученый
Бравер, Т. С., Раш, Б. К., Сатпуте, А. Б., и Барч, Д. М. (2005). Обработка контекста и поддержание контекста в здоровом старении и ранней стадии деменции типа Альцгеймера. Психология и старение, 20 , 33–46.
PubMed Статья Google ученый
Берджесс, П.У. и Шаллис Т. (1996). Конфабуляция и контроль воспоминаний. Память, 4 (4), 359–411.
PubMed Статья Google ученый
Кэмпбелл, К. Л., Хашер, Л., и Томас, Р. К. (2010). Гипер-связывание: уникальный эффект старения. Психологическая наука, 21 , 399–405.
PubMed Статья Google ученый
Коннелли, С.Л., Хашер Л. и Закс Р. Т. (1991). Возраст и чтение: влияние отвлечения. Психология и старение, 6 , 533–541.
PubMed Статья Google ученый
Крейк, Ф. И. М. (1982). Выборочные изменения в кодировке в зависимости от уменьшения производительности обработки. В F. Klix, J. Hoffman, & E. van der Meer (Eds.), Когнитивные исследования в психологии (стр. 152–161). Берлин: Deutscher Verlag der Wissenschaffen.
Google ученый
Крейк, Ф. И. М. (1983). Возрастные различия в запоминании. В Н. Баттерс и Л. Р. Сквайр (ред.), Нейропсихология памяти (стр. 3–12). Нью-Йорк: Guildford Press.
Google ученый
Крейк, Ф. И. М., и Дженнингс, Дж. М. (1992). Человеческая память. В F. I. M. Craik & T. A. Salthouse (Eds.), Справочник по старению и познанию (стр.51–110). Хиллсдейл, Нью-Джерси: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Google ученый
Додсон, К. С., & Шактер, Д. Л. (2002). Когда ложное распознавание встречается с метапознанием: эвристика различимости. Журнал памяти и языка, 46 , 782–803.
Артикул Google ученый
Дучек, Дж. М., Балота, Д. А., и Тессинг, В. К. (1998). Подавление визуальной и концептуальной информации во время чтения при здоровом старении и болезни Альцгеймера. Старение, нейропсихология и познание, 5 , 169–181.
Артикул Google ученый
Дюверн, С., Мотамединия, С., и Рагг, М. Д. (2009). Влияние возраста на нейронные корреляты обработки сигналов поиска модулируется требованиями задачи. Журнал когнитивной неврологии, 21 , 1–17.
PubMed Статья Google ученый
Диван, Дж., И Мерфи, У. Э. (1996). Старение и подавляющий контроль понимания текста. Психология и старение, 11 , 199–206.
PubMed Статья Google ученый
Эриксен, Б. А., Эриксен, К. В., и Хоффман, Дж. Э. (1986). Память распознавания и выбор внимания: последовательного сканирования недостаточно. Журнал экспериментальной психологии: человеческое восприятие и производительность, 12 , 476–483.
PubMed Статья Google ученый
Галло, Д.А., Котел, С. С., Мур, К. Д., и Шактер, Д. Л. (2007). Старение может избавить от мониторинга поиска, основанного на воспоминаниях: важность различимости событий. Психология и старение, 22 , 209–213.
PubMed Статья Google ученый
Хашер, Л., Лустиг, К., и Закс, Р. Т. (2007). Тормозящие механизмы и контроль внимания. В A. Conway, C. Jarrold, M. Kane, A. Miyake, & J. Towse (Eds.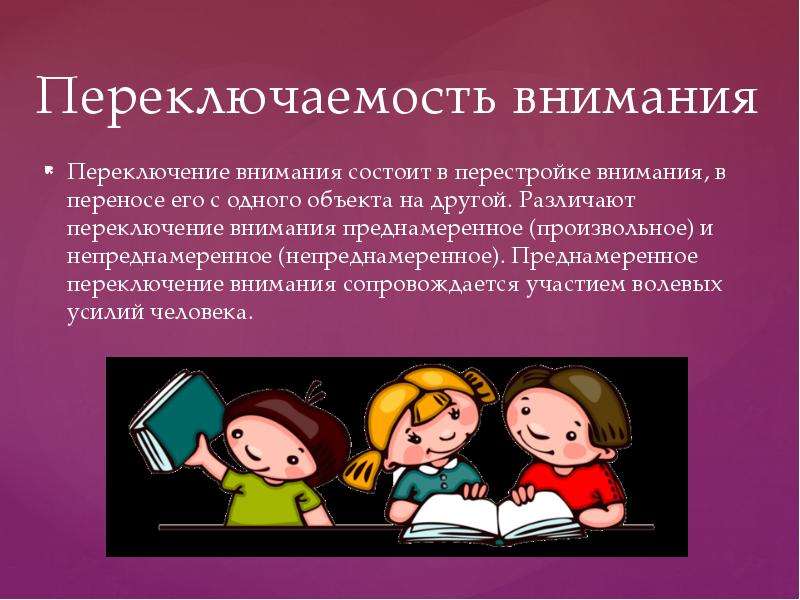 ), , Вариация в рабочей памяти (стр.227–249). Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета.
), , Вариация в рабочей памяти (стр.227–249). Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета.
Google ученый
Хашер, Л., и Закс, Р. Т. (1988). Рабочая память, понимание и старение: обзор и новый взгляд. В Г. Г. Бауэре (ред.), Психология обучения и мотивации (Том 22) (стр. 193–225). Сан-Диего, Калифорния: Academic Press.
Google ученый
Хикс, Дж. Л., и Марш, Р.Л. (2000). К уточнению требований внимания памяти распознавания. Журнал экспериментальной психологии. Обучение, память и познание, 26 , 1483–1498.
PubMed Статья Google ученый
Джейкоби, Л. Л. (1991). Структура диссоциации процесса: отделение автоматического от преднамеренного использования памяти. Журнал памяти и языка, 30 , 513–541.
Л. (1991). Структура диссоциации процесса: отделение автоматического от преднамеренного использования памяти. Журнал памяти и языка, 30 , 513–541.
Артикул Google ученый
Якоби, Л.Л. и Даллас М. (1981). О взаимосвязи автобиографической памяти и перцептивного обучения. Журнал экспериментальной психологии: Общие, 3 , 306–340.
Артикул Google ученый
Джейкоби, Л. Л., Келли, К. М., и МакЭлри, Б. Д. (1999). Роль когнитивного контроля: ранний отбор против поздней коррекции. В S. Chaiken & Y. Trope (Eds.), Теории двойного процесса в социальной психологии (стр.383–400). Нью-Йорк: Гилфорд Пресс.
Google ученый
Джейкоби, Л. Л., Симидзу, Ю., Дэниэлс, К. А., и Родс, М. Г. (2005). Способы когнитивного контроля при распознавании и исходной памяти: глубина поиска. Psychonomic Bulletin & Review, 12 , 852–857.
Артикул Google ученый
Якоби, Л. Л., Симидзу, Ю., Веланова, К., и Родс, М.Г. (2005). Возрастные различия в глубине поиска: Память для фольги. Журнал памяти и языка, 52 , 493–504.
Артикул Google ученый
Джейкоби Л. Л. и Уайтхаус К. (1989). Иллюзия памяти: ложное распознавание под влиянием бессознательного восприятия. Журнал экспериментальной психологии: Общие, 118 , 126–135.
Артикул Google ученый
Якоби, Л.Л., Волошин В. и Келли К. (1989). Стать знаменитым, но не быть признанным: бессознательное влияние памяти, вызванное разделением внимания. Журнал экспериментальной психологии: Общие, 118 , 115–125.
Артикул Google ученый
Джеймс У. (1890). Основы психологии (т. 1) . Нью-Йорк: Генри Холт и Ко.
Google ученый
Дженнингс, Дж.М. и Якоби Л. Л. (1993). Автоматическое и преднамеренное использование памяти: старение, внимание и контроль. Психология и старение, 8 , 283–293.
PubMed Статья Google ученый
Дженнингс, Дж. М., и Джейкоби, Л. Л. (1997). Процедура противодействия для выявления возрастных дефицитов в памяти: отчетливые эффекты повторения. Психология и старение, 12 , 352–361.
М., и Джейкоби, Л. Л. (1997). Процедура противодействия для выявления возрастных дефицитов в памяти: отчетливые эффекты повторения. Психология и старение, 12 , 352–361.
PubMed Статья Google ученый
Джонстон, В.А., Хоули, К. Дж., Плеве, С. Х., Эллиот, Дж. М. Г. и Девитт, М. Дж. (1990). Привлечение внимания новыми стимулами. Журнал экспериментальной психологии: Общие, 119 , 397–411.
Артикул Google ученый
Квавилашвили, Л., и Мандлер, Г. (2004). Из головы: исследование непроизвольных семантических воспоминаний. Когнитивная психология, 48 , 47–94.
PubMed Статья Google ученый
Лустиг, К., Хашер, Л., и Тонев, С. Т. (2006). Отвлечение как фактор, определяющий скорость обработки. Psychonomic Bulletin & Review, 13 , 619–625.
Артикул Google ученый
Мейс, Дж. (2006). Эпизодическое запоминание создает доступ к непроизвольной сознательной памяти: демонстрация непроизвольного вспоминания в задаче произвольного вспоминания. Память, 14 , 917–924.
PubMed Статья Google ученый
MacLeod, C.М. (1991). Полвека исследований эффекта Струпа: интегративный обзор. Психологический бюллетень, 109 , 163–203.
PubMed Статья Google ученый
Мэдиган, С. (1983). Картинная память. В J. C. Yuille (Ed.), Образцы, память и познание: Очерки в честь Аллана Пайвио (стр. 65–89). Хиллсдейл, Нью-Джерси: Эрлбаум.
Google ученый
Мандлер, Г.(1980). Признание: суждение о предыдущем происшествии. Психологическое обозрение, 87 , 252–271.
Артикул Google ученый
Марш, Р. Л., Микс, Дж. Т., Кук, Г. И., Кларк-Фус, А., Хикс, Дж. Л., и Брюэр, Г. А. (2009). Ограничения извлечения в интерфейсе создают различия в воспоминаниях при последующем тесте. Журнал памяти и языка, 61 , 470–479.
Артикул Google ученый
Mayr, U., & Kliegl, R. (2000). Переключение набора задач и извлечение долговременной памяти. Журнал экспериментальной психологии. Обучение, память и познание, 26 , 1124–1140.
PubMed Статья Google ученый
Милхэм, М. П., Эриксон, К. И., Банич, М. Т., Крамер, А. Ф., Уэбб, А., Всалек, Т. и др. (2002). Контроль внимания в стареющем мозге: выводы из исследования фМРТ задачи Stroop. Мозг и познание, 49 , 277–296.
PubMed Статья Google ученый
Морком, А. М., и Рагг, М. Д. (2004). Влияние возраста на обработку сигналов поиска, выявленное ERP. Neuropsychologia, 42 (11), 1525–1542.
PubMed Статья Google ученый
Москович, М. (1994). Когнитивные ресурсы и эффекты взаимодействия двойной задачи при извлечении у нормальных людей: роль лобных долей и медиальной височной коры. Нейропсихология, 8 , 524–534.
Артикул Google ученый
Москович, М., и Мело, Б. (1997). Стратегический поиск и лобные доли: данные конфабуляции и амнезии. Neuropsychologia, 35 , 1017–1034.
PubMed Статья Google ученый
Муттер, С. А., Нейлор, Дж. К., и Паттерсон, Э. Р. (2005). Влияние возраста и контекста задачи на выполнение задачи Струпа. Память и познание, 33 , 514–530.
Артикул Google ученый
Норман Д. А. и Боброу Д. Г. (1979). Описание: Промежуточный этап поиска в памяти. Когнитивная психология, 11 , 107–123.
Артикул Google ученый
Пайвио, А. (1969). Психические образы в ассоциативном обучении и памяти. Психологическое обозрение, 76 , 241–263.
Артикул Google ученый
Пакстон, Дж. Л., Барч, Д. М., Расин, К. А., и Бравер, Т. С. (2008). Когнитивный контроль, поддержание целей и префронтальная функция в здоровом старении. Кора головного мозга, 18 , 1010–1028.
PubMed Статья Google ученый
Roediger, H. L., III. (1990). Неявная память: удержание без запоминания. Американский психолог, 45 , 1043–1056.
PubMed Статья Google ученый
Россион, Б., и Пуртуа, Г. (2004). Возвращаясь к графическому набору объектов Снодграсса и Вандерварта: роль деталей поверхности в распознавании объектов базового уровня. Восприятие, 33 , 217–236.
PubMed Статья Google ученый
Роу, Г., Вальдеррама, С., Хашер, Л., и Ленартович, А. (2006). Нарушение регуляции внимания: преимущество для неявной памяти. Психология и старение, 21 , 826–830.
PubMed Статья Google ученый
Шактер, Д. Л., Израиль, Л., и Расин, К. (1999). Подавление ложного распознавания у молодых и пожилых людей: эвристика различимости. Журнал памяти и языка, 40 , 1–24.
Артикул Google ученый
Шипли, W.С. (1986). Институт живых масштабов Шипли . Лос-Анджелес: Западные психологические услуги.
Google ученый
Скиннер, Э., и Фернандес, М.А. (2008). Общие и специфические для материала интерференционные эффекты разделения внимания при восстановлении запоминания и знания. Acta Psychologica, 127 , 211–221.
PubMed Статья Google ученый
Спилер, Д.Х., Балота Д. А. и Фауст М. Е. (1996). Показатели Stroop у молодых людей, здоровых пожилых людей и людей со старческой деменцией типа Альцгеймера. Журнал экспериментальной психологии: человеческое восприятие и производительность, 22 , 461–479.
PubMed Статья Google ученый
Сте-Мари Д. М. и Джейкоби Л. Л. (1993). Спонтанное и направленное распознавание: относительность автоматизма. Журнал экспериментальной психологии. Обучение, память и познание, 19 , 777–788.
Артикул Google ученый
Струп, Дж. Р. (1935). Исследования вмешательства в серийных словесных реакций. Журнал экспериментальной психологии, 18 , 643–662.
Артикул Google ученый
Йонелинас, А. П. (2002). Природа воспоминания и знакомства: обзор 30-летних исследований. Журнал памяти и языка, 46 , 441–517.
Артикул Google ученый
Спонтанные флуктуации гибкого контроля скрытого внимания
Abstract
Спонтанные колебания когнитивной гибкости характеризуются моментальными изменениями эффективности контроля над переключениями внимания. Мы использовали фМРТ для исследования нейронных коррелятов у людей спонтанных колебаний готовности незаметно переключать внимание между двумя периферийными потоками быстрой последовательной визуальной презентации.Время реакции обнаружения цели (RT) после переключения или удержания скрытого пространственного внимания служило поведенческим индексом колебаний гибкости внимания. В частности, стоимость, связанная с переключением внимания по сравнению с удерживанием внимания, варьировалась в зависимости от досудебной активности мозга в ключевых регионах сети режима по умолчанию (DMN), но не дорсальной сети внимания.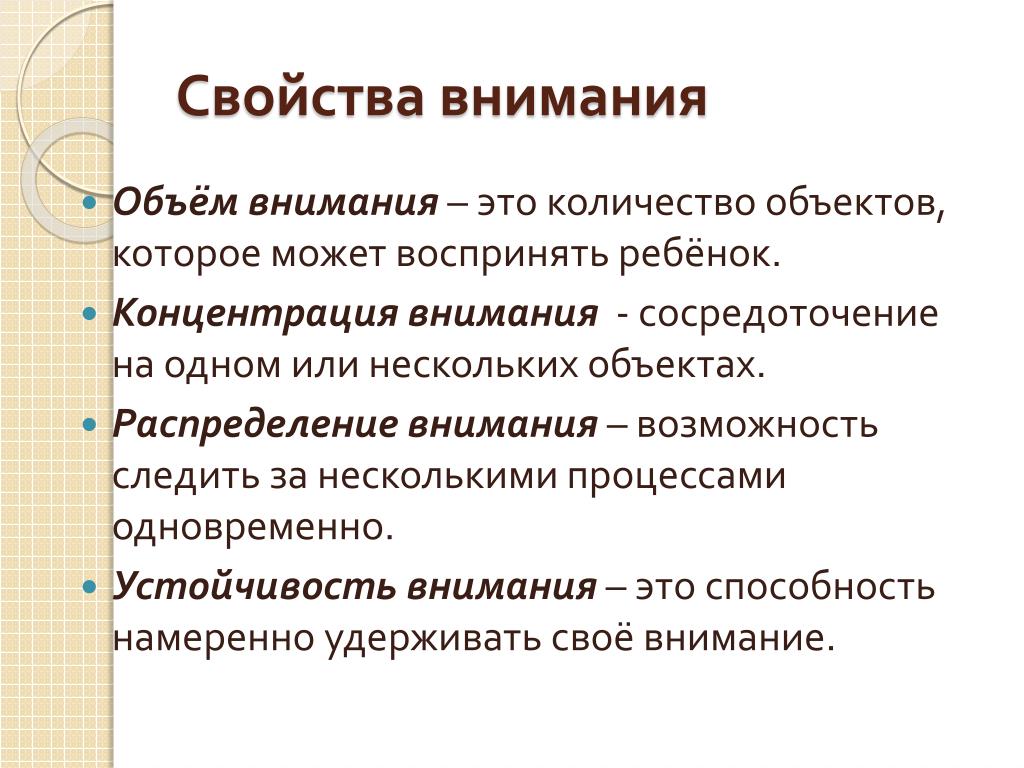 Высокая предварительная активность в DMN была связана с более значительным увеличением RT в испытании со сменой по сравнению с RT в испытании с удержанием, что показало, что эти области связаны с состоянием стабильности внимания.Напротив, высокая предварительная активность в двусторонней передней островковой доле и в предпредпоративной моторной области / дополнительной моторной зоне была связана с большим снижением RT при испытании сдвигом по сравнению с пробной RT с удержанием, что отражает повышенную гибкость. Наши результаты существенно проясняют роль предклинья, медиальной префронтальной коры и латеральной теменной коры, указывая на то, что снижение активности может не просто указывать на большее выполнение задачи, но также, в частности, на готовность обновить фокус внимания.Исследование нейронных коррелятов спонтанных изменений гибкости внимания может способствовать нашему пониманию нарушений когнитивного контроля, а также здоровой вариативности контроля пространственного внимания.
Высокая предварительная активность в DMN была связана с более значительным увеличением RT в испытании со сменой по сравнению с RT в испытании с удержанием, что показало, что эти области связаны с состоянием стабильности внимания.Напротив, высокая предварительная активность в двусторонней передней островковой доле и в предпредпоративной моторной области / дополнительной моторной зоне была связана с большим снижением RT при испытании сдвигом по сравнению с пробной RT с удержанием, что отражает повышенную гибкость. Наши результаты существенно проясняют роль предклинья, медиальной префронтальной коры и латеральной теменной коры, указывая на то, что снижение активности может не просто указывать на большее выполнение задачи, но также, в частности, на готовность обновить фокус внимания.Исследование нейронных коррелятов спонтанных изменений гибкости внимания может способствовать нашему пониманию нарушений когнитивного контроля, а также здоровой вариативности контроля пространственного внимания.
ЗНАЧИМОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ Люди регулярно испытывают колебания подготовительного когнитивного контроля, которые влияют на производительность в повседневной жизни. Например, в одни моменты люди могут быстрее инициировать пространственный сдвиг внимания, чем в другие.Текущее исследование показало, что предварительная активность головного мозга в определенных областях коры головного мозга предсказывала изменение от испытания к испытанию способностей участников гибко смещать фокус внимания. Внутренне сгенерированные колебания активности мозга в нескольких ключевых регионах сети режима по умолчанию, а также в пределах передней островки и предподполнительных / дополнительных моторных областей несли поведенческие последствия для подготовительного контроля внимания, помимо отсутствия внимания. Наши результаты являются первыми, которые связывают внутренние вариации в мозговой активности до начала эксперимента с моментальными изменениями в подготовительном контроле внимания над пространственным выбором.
Введение
Выбор внимания формирует наше понимание мира вокруг нас таким образом, что физически значимые, связанные с вознаграждением или соответствующие цели стимулы получают преимущественное представление в мозгу и сильно влияют на наше поведение (Desimone and Duncan, 1995; Reynolds et al. ., 1999; Anderson et al., 2011; Sali et al., 2014). Нарушения контроля внимания, такие как потеря внимания, персеверация и отвлечение, часто связаны с различными клиническими синдромами, такими как синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ; Barkley et al., 1997), злоупотребление психоактивными веществами (Cools, 2008) и ожирение (Volkow et al., 2011). Здоровые люди также регулярно испытывают колебания в своих способностях контролировать внимание, которые существенно влияют на поведение (Bellgrove et al., 2004). Однако мало что известно о нейронной основе этих спонтанных флуктуаций подготовительных состояний контроля внимания. В текущем исследовании мы использовали фМРТ, чтобы изучить, как динамические изменения активности мозга отражают моментальные колебания готовности людей выполнять пространственные сдвиги внимания.
Состояния подготовительного контроля могут варьироваться от периодов гибкости внимания, когда люди способны быстро переключать внимание, до периодов стабильности внимания, когда переключение внимания происходит вяло. Хотя стойкие индивидуальные различия и факторы окружающей среды, вероятно, играют роль в частоте и величине моментальных изменений когнитивной гибкости (Sali et al., 2015), внутренние колебания активности мозга также могут вносить вклад в эти параметры контроля.Таким образом, взаимосвязь между изменениями в поведенческих характеристиках и продолжающимися колебаниями активности мозга, измеренными с помощью фМРТ, может способствовать нашему пониманию нейронных механизмов, участвующих в подготовительном когнитивном контроле.
Спонтанные колебания активности мозга были связаны как с изменениями в выполнении задачи (Weissman et al., 2006), так и с подготовительным когнитивным контролем (Leber et al., 2008; Leber, 2010). Используя парадигму переключения задач, Лебер и его коллеги (2008) исследовали взаимосвязь между изменениями в активности мозга до суда и размером поведенческих затрат на переключение задач. Предварительное повышение активности в группе корковых и подкорковых областей, включая левую верхнюю теменную долю, переднюю поясную кору, левую нижнюю теменную долю, правую среднюю лобную извилину (MFG) и левую скорлупу, было связано с увеличением когнитивных функций. гибкость. В аналогичном исследовании спонтанные колебания предсудебной активности в левой MFG предсказывали степень, в которой заметный отвлекающий элемент привлекал внимание в каждом исследовании (Leber, 2010).
Предварительное повышение активности в группе корковых и подкорковых областей, включая левую верхнюю теменную долю, переднюю поясную кору, левую нижнюю теменную долю, правую среднюю лобную извилину (MFG) и левую скорлупу, было связано с увеличением когнитивных функций. гибкость. В аналогичном исследовании спонтанные колебания предсудебной активности в левой MFG предсказывали степень, в которой заметный отвлекающий элемент привлекал внимание в каждом исследовании (Leber, 2010).
В данном исследовании мы распространили предыдущие исследования спонтанных изменений в подготовительном контроле в область целенаправленного скрытого пространственного внимания. Возможно, что лобно-теменные нейронные механизмы, участвующие в выполнении скрытого контроля внимания, называемого здесь дорсальной сетью внимания (DAN), также будут предсказывать моментальные изменения в подготовительной гибкости внимания (Yantis et al., 2002; Серенс и Янтис, 2006; Чиу, Янтис, 2009; Эстерман и др., 2009; см. обзор в Corbetta and Shulman, 2002). И наоборот, набор областей мозга, составляющих сеть режима по умолчанию (DMN), также был связан с моментальными изменениями состояний внимания. Эти области мозга, включая предклинье, вентромедиальную префронтальную кору (vmPFC) и латеральную теменную кору, показывают коррелированную активность между собой в состоянии покоя в отсутствие явной задачи и отрицательно коррелируют с лобными и теменными областями когнитивного контроля (Raichle et al., 2001). Следовательно, альтернативная возможность состоит в том, что гибкость внимания связана с изменениями активности в этих областях, которые ранее были связаны с отключением внимания. Важно отметить, что такое открытие расширит роль областей DMN за пределы простого выполнения задачи и предполагает, что спонтанные колебания активности мозга имеют разные последствия для поведенческой деятельности в зависимости от того, необходимо ли переключение внимания.
И наоборот, набор областей мозга, составляющих сеть режима по умолчанию (DMN), также был связан с моментальными изменениями состояний внимания. Эти области мозга, включая предклинье, вентромедиальную префронтальную кору (vmPFC) и латеральную теменную кору, показывают коррелированную активность между собой в состоянии покоя в отсутствие явной задачи и отрицательно коррелируют с лобными и теменными областями когнитивного контроля (Raichle et al., 2001). Следовательно, альтернативная возможность состоит в том, что гибкость внимания связана с изменениями активности в этих областях, которые ранее были связаны с отключением внимания. Важно отметить, что такое открытие расширит роль областей DMN за пределы простого выполнения задачи и предполагает, что спонтанные колебания активности мозга имеют разные последствия для поведенческой деятельности в зависимости от того, необходимо ли переключение внимания.
Материалы и методы
Участники.
Двадцать взрослых (11 женщин, 1 участник не указали пол) в возрасте от 18 до 32 лет (M = 21,8, SD = 3,37) завершили 2-часовой сеанс сканирования с помощью фМРТ в обмен на денежную компенсацию.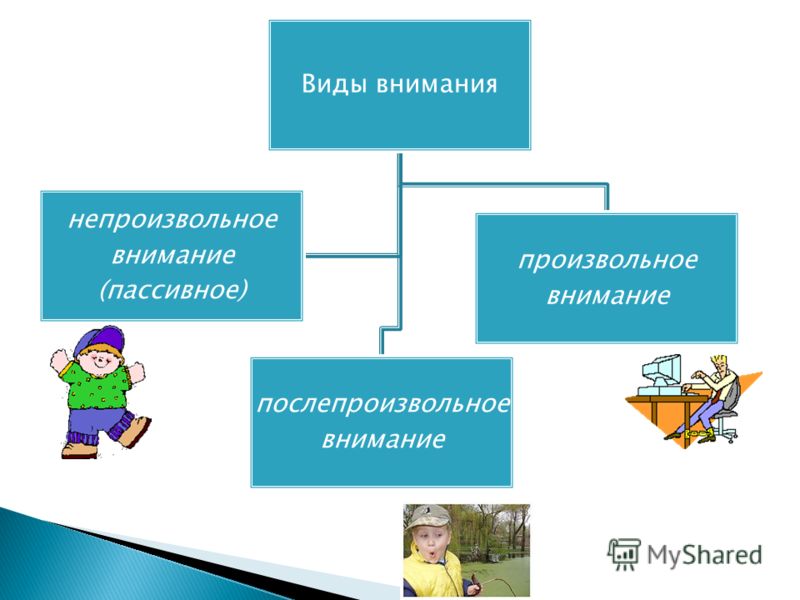 Восемнадцать участников были отобраны на основании выполнения заданий во время более раннего сеанса поведенческого скрининга. Эти участники выполнили не менее 10 запусков той задачи, которая использовалась в сканере, до участия в исследовании фМРТ. Остальные два участника имели большой опыт в выполнении аналогичных экспериментальных задач и поэтому не прошли дополнительного обучения для текущего исследования.У всех участников было нормальное зрение или зрение с поправкой на нормальное, и все, кроме одного, были правшами. Протокол был одобрен экспертными советами Университета Джона Хопкинса и медицинских учреждений Джона Хопкинса, и все участники дали письменное информированное согласие.
Восемнадцать участников были отобраны на основании выполнения заданий во время более раннего сеанса поведенческого скрининга. Эти участники выполнили не менее 10 запусков той задачи, которая использовалась в сканере, до участия в исследовании фМРТ. Остальные два участника имели большой опыт в выполнении аналогичных экспериментальных задач и поэтому не прошли дополнительного обучения для текущего исследования.У всех участников было нормальное зрение или зрение с поправкой на нормальное, и все, кроме одного, были правшами. Протокол был одобрен экспертными советами Университета Джона Хопкинса и медицинских учреждений Джона Хопкинса, и все участники дали письменное информированное согласие.
Стимулы и процедура.
Все стимулы отображались на экране обратной проекции, расположенном в отверстии сканера, который участники наблюдали через зеркало, прикрепленное к катушке на голове. Стимулы состояли из множества потоков белых быстрых последовательных визуальных представлений (RSVP), состоящих из буквенно-цифровых символов, каждый из которых отображался в течение 200 мс без пробелов на черном фоне (рис.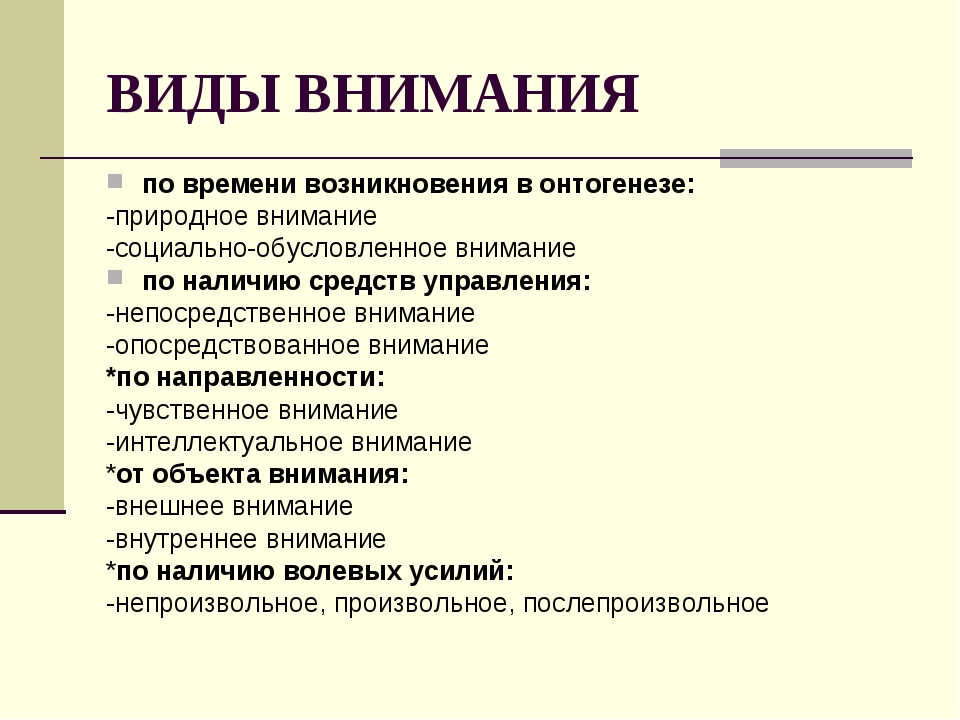 1). В любой момент участник наблюдал за потоком, расположенным слева или справа от центральной точки фиксации (0,5 ° на 0,5 °; угол обзора 3,00 ° от точки фиксации к центру каждой мишени. транслировать). Каждый буквенно-цифровой символ имеет угол обзора ∼0,56 ° на 1,12 °. Презентация стимулов контролировалась программой Psychophysics Toolbox (версия 3.08; Brainard, 1997), работающей в MATLAB.
1). В любой момент участник наблюдал за потоком, расположенным слева или справа от центральной точки фиксации (0,5 ° на 0,5 °; угол обзора 3,00 ° от точки фиксации к центру каждой мишени. транслировать). Каждый буквенно-цифровой символ имеет угол обзора ∼0,56 ° на 1,12 °. Презентация стимулов контролировалась программой Psychophysics Toolbox (версия 3.08; Brainard, 1997), работающей в MATLAB.
Экспериментальная задача. Участники наблюдали за одним из двух потоков RSVP, относящихся к периферийным задачам, на предмет появления визуальной подсказки.Письменные подсказки заставляли участников переключать или удерживать внимание. Участники быстро оценивали четность стимулов, появляющихся в указанном месте сразу после каждого предъявления сигнала.
Каждый прогон начинался с представления слов «Начать посещение СПРАВОГО» или «Начать посещение ВЛЕВО» в течение ~ 8 с, что указывало на первый поток RSVP, который будет посещен. Участники следили за этим потоком на предмет появления встроенной визуальной подсказки, чтобы либо переключить внимание на противоположный поток, либо удерживать внимание в этом месте. Для большей части каждого прогона эти 2 релевантных для задачи потока содержали случайно сгенерированные цифры от 1 до 8. Иногда в обслуживаемом потоке появлялась буква «A» или буква «K», побуждая участников продолжать удерживать свои внимание на текущем посещенном месте или переключение внимания на другой поток. Для половины участников буква «K» сигнализировала о скрытом переключении внимания на противоположный поток ответов, а буква «A» побуждала участников удерживать внимание в месте, где указана реплика.Остальные участники выполнили задание с противоположным отображением сигналов. Участники получили 18 сигналов смены и 18 сигналов удержания во время каждого пробега. Во время сеанса сканирования было выполнено 12 запусков, всего 216 событий каждого типа. Все реплики были представлены в случайном порядке с единственным ограничением: не более 3 реплик одного типа (сдвиг или удержание) могли быть представлены последовательно. Три боковых потока, окружающие каждый из целевых потоков (2,16 ° от центра к центру), состояли из случайно сгенерированных букв, не относящихся к задаче (за исключением A, K, I, O и W).
Для большей части каждого прогона эти 2 релевантных для задачи потока содержали случайно сгенерированные цифры от 1 до 8. Иногда в обслуживаемом потоке появлялась буква «A» или буква «K», побуждая участников продолжать удерживать свои внимание на текущем посещенном месте или переключение внимания на другой поток. Для половины участников буква «K» сигнализировала о скрытом переключении внимания на противоположный поток ответов, а буква «A» побуждала участников удерживать внимание в месте, где указана реплика.Остальные участники выполнили задание с противоположным отображением сигналов. Участники получили 18 сигналов смены и 18 сигналов удержания во время каждого пробега. Во время сеанса сканирования было выполнено 12 запусков, всего 216 событий каждого типа. Все реплики были представлены в случайном порядке с единственным ограничением: не более 3 реплик одного типа (сдвиг или удержание) могли быть представлены последовательно. Три боковых потока, окружающие каждый из целевых потоков (2,16 ° от центра к центру), состояли из случайно сгенерированных букв, не относящихся к задаче (за исключением A, K, I, O и W).
Сразу после смещения буквенной реплики участники быстро оценили четность цифр, появляющихся в указанном месте. В течение 2-х секундного периода ответа все цифры, появляющиеся в потоке с указанием, имели одинаковую четность (все четные или все нечетные). Перед тем, как приступить к задаче, участники получили инструкции о том, что они должны были ответить на основе первой цифры, идентифицированной во время этого окна ответа, при этом сохраняя высокий уровень точности. Поскольку все целевые цифры имели одинаковую четность, время поведенческой реакции (RT) служило индикатором колебаний внимания от одного испытания к другому.В частности, величина замедления RT для сменной попытки по сравнению с испытанием с удержанием указывала на текущее состояние гибкости внимания субъекта. Цифры, появляющиеся в потоке без связи, оставались генерируемыми случайным образом в течение окна ответа. Все ответы участники получали с помощью двух MR-совместимых кнопок. Участники нажимали одну кнопку большим пальцем левой руки, а другую — большим пальцем правой руки, и мы уравновешивали сопоставление ответов участников с четностью. После 2-секундного окна ответа цифры в обоих целевых потоках снова генерировались случайным образом.Любые нажатия, сделанные после 2-секундного окна ответа, оценивались как неправильные. После ответа участники удерживали внимание на периферийном потоке, который ранее содержал целевые цифры, до появления следующей буквенной реплики. Чтобы предотвратить непреднамеренное переключение внимания, участники получили инструкции, что после ответа следующая реплика появится в последнем посещенном месте. Например, если участники получили сигнал присутствовать в левом потоке в испытании n , сигнал внимания («K» или «A») появился бы в левом потоке во время испытания n + 1.Следующая реплика появилась через 4, 6 или 8 секунд после предыдущей реплики.
После 2-секундного окна ответа цифры в обоих целевых потоках снова генерировались случайным образом.Любые нажатия, сделанные после 2-секундного окна ответа, оценивались как неправильные. После ответа участники удерживали внимание на периферийном потоке, который ранее содержал целевые цифры, до появления следующей буквенной реплики. Чтобы предотвратить непреднамеренное переключение внимания, участники получили инструкции, что после ответа следующая реплика появится в последнем посещенном месте. Например, если участники получили сигнал присутствовать в левом потоке в испытании n , сигнал внимания («K» или «A») появился бы в левом потоке во время испытания n + 1.Следующая реплика появилась через 4, 6 или 8 секунд после предыдущей реплики.
В дополнение к функциональным данным, полученным во время выполнения задачи, мы получили анатомическое сканирование с высоким разрешением для регистрации функциональных изображений в стандартизованном шаблоне, а также сканирование в состоянии покоя для независимого определения областей интереса DMN и DAN (ROI). ). Участники зафиксировали центральный крестик без явного задания на время 5-минутного сканирования в состоянии покоя. Оставшаяся часть сеанса сканирования состояла из восьми прогонов сокращенной версии задачи, в которой частота сигналов сдвига и удержания варьировалась от прогона (данные здесь не приводятся).
). Участники зафиксировали центральный крестик без явного задания на время 5-минутного сканирования в состоянии покоя. Оставшаяся часть сеанса сканирования состояла из восьми прогонов сокращенной версии задачи, в которой частота сигналов сдвига и удержания варьировалась от прогона (данные здесь не приводятся).
Сбор и анализ данных фМРТ.
МРТ-изображений были получены с помощью сканера Phillips Intera 3T в Центре функциональной визуализации мозга Кирби в Институте Кеннеди Кригера в Балтиморе, штат Мэриленд. Для каждого субъекта было получено анатомическое сканирование с высоким разрешением с помощью MPRAGE T1-взвешенной последовательности с изотропным размером вокселя 1 мм [время повторения (TR) = 8,1 мс; время эха (TE) = 3,7 мс, угол переворота = 8 °, 150 осевых срезов, зазор 0 мм, фактор SENSE = 2]. Т2 * -взвешенные эхопланарные изображения были получены с помощью 32-канальной головной катушки SENSE в 36 поперечных последовательных срезах (TR = 2000 мс; TE = 30 мс; угол поворота = 70 °; матрица сбора данных = 76 × 76, поле зрения = 192.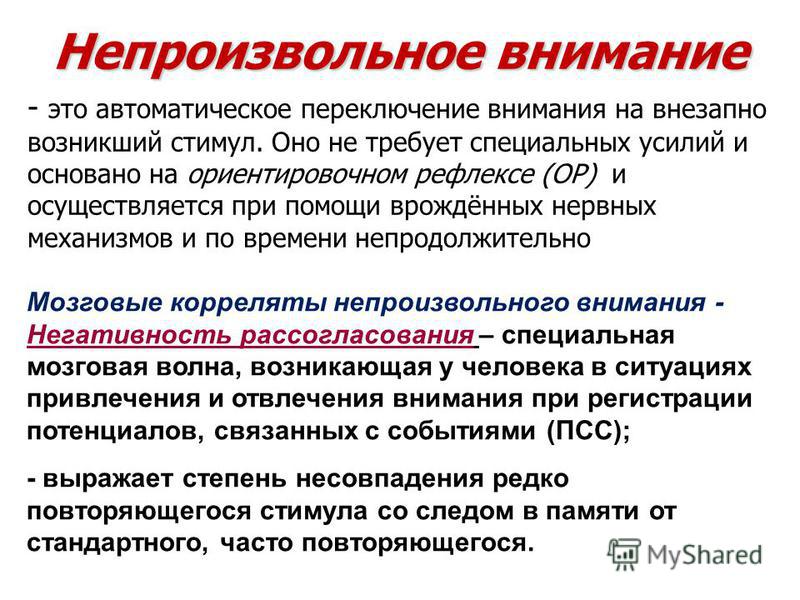 00 мм × 171,79 мм × 107,50 мм; Зазор 0,5 мм; Фактор SENSE = 2), в результате чего воксели были изотропными на 2,5 мм и покрывали большую часть мозга. Каждое сканирование EPI начиналось с четырех фиктивных импульсов перед началом RSVP, чтобы намагниченность достигла устойчивого состояния. Мы получили 112 томов для каждого из 12 прогонов RSVP, продолжительность каждого из которых составляла ~ 3,7 мин. Сканирование в состоянии покоя было идентично функциональным запускам, за исключением того, что было получено 150 томов в общей сложности за 5 минут.
00 мм × 171,79 мм × 107,50 мм; Зазор 0,5 мм; Фактор SENSE = 2), в результате чего воксели были изотропными на 2,5 мм и покрывали большую часть мозга. Каждое сканирование EPI начиналось с четырех фиктивных импульсов перед началом RSVP, чтобы намагниченность достигла устойчивого состояния. Мы получили 112 томов для каждого из 12 прогонов RSVP, продолжительность каждого из которых составляла ~ 3,7 мин. Сканирование в состоянии покоя было идентично функциональным запускам, за исключением того, что было получено 150 томов в общей сложности за 5 минут.
Предварительная обработка данных была выполнена с использованием анализа функциональных нейроизображений (AFNI; Cox, 1996), за исключением удаления черепа из анатомического сканирования для улучшения сопоставления изображений, которое выполнялось с использованием fsl_anat (Jenkinson et al., 2012). Мы применили нелинейное искажение AFNI (3dQWarp), чтобы преобразовать анатомическое сканирование каждого субъекта в стереотаксическое пространство Talairach в соответствии с шаблоном Colin 27. Все функциональные изображения были сначала скорректированы для получения времени среза. Затем мы скорректировали движение объекта и зарегистрировали каждое изображение в соответствующем нормализованном анатомическом сканировании, применив параметры нелинейного деформирования. Функциональные серии были повторно дискретизированы до изотропного разрешения 2 мм во время совместной регистрации. Наконец, мы выполнили пространственное сглаживание с ядром с половинной шириной ядра 4 мм и нормализовали жирный ответ в каждом вокселе на среднюю величину MR сигнала вокселя в течение всего эксперимента.
Все функциональные изображения были сначала скорректированы для получения времени среза. Затем мы скорректировали движение объекта и зарегистрировали каждое изображение в соответствующем нормализованном анатомическом сканировании, применив параметры нелинейного деформирования. Функциональные серии были повторно дискретизированы до изотропного разрешения 2 мм во время совместной регистрации. Наконец, мы выполнили пространственное сглаживание с ядром с половинной шириной ядра 4 мм и нормализовали жирный ответ в каждом вокселе на среднюю величину MR сигнала вокселя в течение всего эксперимента.
Определение ROI DMN и DAN.
Мы провели независимый компонентный анализ в программе FSL Melodic (Jenkinson et al., 2012), чтобы независимо определить ключевые области DMN и DAN с использованием данных состояния покоя. Мы использовали автоматизированную процедуру для определения количества компонентов и выбрали компоненты, наиболее похожие на DMN и DAN, путем визуального осмотра. Как и в более ранних исследованиях (Esterman et al. , 2013, 2014; Rosenberg et al., 2015), мы стремились выделить пик 200 смежных вокселов в четырех областях каждой сети.Поскольку некоторые из кластеров пиков имели воксели с эквивалентными баллами z , фактические размеры области варьировались от 200 до 203 вокселей. Для DMN мы определили предклинье, vmPFC и двустороннюю боковую париетальную кору. Для DAN мы определили двустороннюю интрапариетальную борозду и двустороннюю дорсальную префронтальную кору. Полученные четыре региона в каждой сети показаны на рисунке 2.
, 2013, 2014; Rosenberg et al., 2015), мы стремились выделить пик 200 смежных вокселов в четырех областях каждой сети.Поскольку некоторые из кластеров пиков имели воксели с эквивалентными баллами z , фактические размеры области варьировались от 200 до 203 вокселей. Для DMN мы определили предклинье, vmPFC и двустороннюю боковую париетальную кору. Для DAN мы определили двустороннюю интрапариетальную борозду и двустороннюю дорсальную префронтальную кору. Полученные четыре региона в каждой сети показаны на рисунке 2.
ROI. Мы независимо определили ROI в DMN и DAN, используя анализ независимых компонентов в данных о состоянии покоя.Области DMN состояли из предклинья, вентромедиального ПФК и двусторонней латеральной теменной коры. Области DAN состояли из двусторонней внутрипариетальной борозды и дорсальной префронтальной коры.
Подготовка досудебного сигнала.
Чтобы изучить взаимосвязь между спонтанными флуктуациями нейронной активности и модуляциями гибкости внимания, мы стремились определить области мозга, для которых взаимосвязь между активностью BOLD до начала исследования и поведенческой RT различалась для испытаний сдвига и удержания. В частности, нас интересовало, связано ли спонтанное изменение активности перед сигналом с соответствующим увеличением или уменьшением подготовительной гибкости внимания в этом испытании. Одним из показателей гибкости внимания является величина разницы в RT для испытаний смещения внимания и удержания внимания (называемая здесь стоимостью смещения). Согласно этому определению, гибкое подготовительное состояние контроля внимания связано с меньшей стоимостью поведенческого сдвига, чем стабильное подготовительное состояние.Поэтому мы применили ту же логику, что и Лебер и его коллеги (2008; см. Также Leber, 2010), чтобы определить, достоверно ли менялась величина затрат на смену в зависимости от колебаний досудебной активности в DMN и DAN.
В частности, нас интересовало, связано ли спонтанное изменение активности перед сигналом с соответствующим увеличением или уменьшением подготовительной гибкости внимания в этом испытании. Одним из показателей гибкости внимания является величина разницы в RT для испытаний смещения внимания и удержания внимания (называемая здесь стоимостью смещения). Согласно этому определению, гибкое подготовительное состояние контроля внимания связано с меньшей стоимостью поведенческого сдвига, чем стабильное подготовительное состояние.Поэтому мы применили ту же логику, что и Лебер и его коллеги (2008; см. Также Leber, 2010), чтобы определить, достоверно ли менялась величина затрат на смену в зависимости от колебаний досудебной активности в DMN и DAN.
Учитывая наш быстрый дизайн эксперимента, связанный с событиями, необработанные данные, выделенные жирным шрифтом, могут служить плохим индикатором спонтанной досудебной активности. Скорее, вызванные заданием ЖИРНЫЕ ответы от предыдущих испытаний могли замаскировать любые более слабые колебания ЖИВОГО курса времени, которые являются результатом спонтанных колебаний активности. Поэтому мы использовали общую линейную модель (GLM), чтобы частично исключить вызванную задачей изменчивость в BOLD-ответе, а также мешающую изменчивость, связанную с источниками, не представляющими интереса, такими как движение объекта, дыхание и артефакты сканера. Такой подход возможен, потому что спонтанные колебания и вызванные заданием реакции в активности мозга аддитивны (Fox et al., 2006; Al-Aidroos et al., 2012). Для каждого из четырех типов событий, представляющих интерес (удерживать внимание влево, удерживать внимание вправо, переключать внимание слева направо и переключать внимание справа налево), мы смоделировали ЖИРНЫЙ отклик с набором из 12 конечных импульсных откликов (КИХ). базовые функции палатки (по одной для каждого объема, полученного, начиная с начала сигнала и продолжаясь до 24 секунд после сигнала).Как и в более ранних исследованиях (Leber, 2010; Al-Aidroos et al., 2012), мы также стремились убрать мешающую изменчивость из ЖИВОГО временного хода. Поэтому мы ввели в модель шесть урезанных параметров движения объекта, а также регрессировали любой линейный или квадратичный дрейф в сигнале.
Поэтому мы использовали общую линейную модель (GLM), чтобы частично исключить вызванную задачей изменчивость в BOLD-ответе, а также мешающую изменчивость, связанную с источниками, не представляющими интереса, такими как движение объекта, дыхание и артефакты сканера. Такой подход возможен, потому что спонтанные колебания и вызванные заданием реакции в активности мозга аддитивны (Fox et al., 2006; Al-Aidroos et al., 2012). Для каждого из четырех типов событий, представляющих интерес (удерживать внимание влево, удерживать внимание вправо, переключать внимание слева направо и переключать внимание справа налево), мы смоделировали ЖИРНЫЙ отклик с набором из 12 конечных импульсных откликов (КИХ). базовые функции палатки (по одной для каждого объема, полученного, начиная с начала сигнала и продолжаясь до 24 секунд после сигнала).Как и в более ранних исследованиях (Leber, 2010; Al-Aidroos et al., 2012), мы также стремились убрать мешающую изменчивость из ЖИВОГО временного хода. Поэтому мы ввели в модель шесть урезанных параметров движения объекта, а также регрессировали любой линейный или квадратичный дрейф в сигнале. Наконец, мы ввели ЖИРНЫЙ временной ход активности из кластера вокселей, попадающих в глубокое белое вещество, а также среднее значение всех вокселей в наборе данных всего мозга (показатель глобальной активности мозга) в качестве двух последних регрессоров отсутствия интереса (Фокс и другие., 2005). Точки времени, для которых евклидова норма производной движения превышала 0,3 °, наряду с предыдущей точкой времени, были подвергнуты цензуре из модели, а также из всех представленных позже анализов фМРТ. Цензура привела к потере <3% всех приобретенных томов. Испытания, в которых участники дали неправильный ответ или не ответили, были включены в модель и не отличались от тех, в которых был получен точный ответ. Вместе эти испытания составили <12% от общего числа испытаний и не могли быть надежно смоделированы отдельно.Из-за ошибки программирования небольшое количество точных ответов было зарегистрировано как неспособность ответить для четырех из 20 участников. Поскольку в этих испытаниях отсутствовали поведенческие RT, они исключены из анализа прогнозов RT для каждого испытания ниже.
Наконец, мы ввели ЖИРНЫЙ временной ход активности из кластера вокселей, попадающих в глубокое белое вещество, а также среднее значение всех вокселей в наборе данных всего мозга (показатель глобальной активности мозга) в качестве двух последних регрессоров отсутствия интереса (Фокс и другие., 2005). Точки времени, для которых евклидова норма производной движения превышала 0,3 °, наряду с предыдущей точкой времени, были подвергнуты цензуре из модели, а также из всех представленных позже анализов фМРТ. Цензура привела к потере <3% всех приобретенных томов. Испытания, в которых участники дали неправильный ответ или не ответили, были включены в модель и не отличались от тех, в которых был получен точный ответ. Вместе эти испытания составили <12% от общего числа испытаний и не могли быть надежно смоделированы отдельно.Из-за ошибки программирования небольшое количество точных ответов было зарегистрировано как неспособность ответить для четырех из 20 участников. Поскольку в этих испытаниях отсутствовали поведенческие RT, они исключены из анализа прогнозов RT для каждого испытания ниже. Тем не менее, поскольку эти участники предоставили достаточно данных (> 140 испытаний для каждого условия после цензуры на выбросы движения), мы включили их испытания с записанными ответами в корреляционный анализ RT ниже. Сообщается обо всех анализах поведенческой точности за исключением этих участников.
Тем не менее, поскольку эти участники предоставили достаточно данных (> 140 испытаний для каждого условия после цензуры на выбросы движения), мы включили их испытания с записанными ответами в корреляционный анализ RT ниже. Сообщается обо всех анализах поведенческой точности за исключением этих участников.
Чтобы измерить спонтанную досудебную активность мозга, мы выделили необъяснимую дисперсию ЖИРНОГО сигнала после запуска GLM, описанного выше. В той мере, в какой наши регрессоры учитывали реакции, вызванные заданием, и известные источники изменчивости неприятных факторов, этот остаточный временной ход отражал внутренние колебания активности мозга. Как и в более ранних исследованиях (Leber et al., 2008), мы сосредоточили свой анализ «проба за пробой» на получении одного объема, предшествующем предъявлению сигнала.Таким образом, образцы досудебной активности, использованные в основном анализе, были собраны за 2 секунды до предъявления сигнала и, таким образом, не могут отражать даже самую раннюю реакцию, вызванную заданием.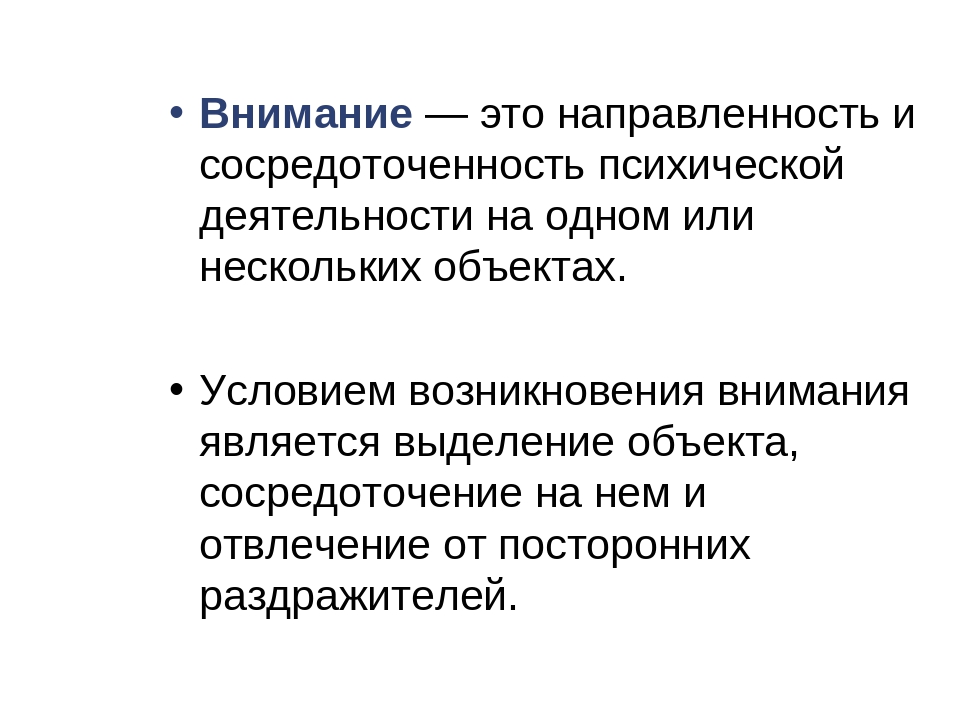 Важно отметить, что хотя для достижения пика гемодинамической реакции требуется 4–10 с, сразу после наступления интересующего события наблюдаются измеримые эффекты. Следовательно, любые пробы, взятые после начала сигнала, могут отражать обработку, связанную с заданием, в дополнение к любым переносимым подготовительным эффектам. Следовательно, только образцы, взятые до появления сигнала, служат чистой мерой взаимосвязи между внутренними колебаниями подготовительной активности мозга и моментальной гибкостью внимания.
Важно отметить, что хотя для достижения пика гемодинамической реакции требуется 4–10 с, сразу после наступления интересующего события наблюдаются измеримые эффекты. Следовательно, любые пробы, взятые после начала сигнала, могут отражать обработку, связанную с заданием, в дополнение к любым переносимым подготовительным эффектам. Следовательно, только образцы, взятые до появления сигнала, служат чистой мерой взаимосвязи между внутренними колебаниями подготовительной активности мозга и моментальной гибкостью внимания.
Прогнозирование колебаний гибкости внимания от одного исследования к другому.
Чтобы ответить на главный вопрос, представляющий интерес, мы определили области мозга, для которых взаимосвязь между активностью до судебного разбирательства и ОТ между испытаниями значительно различалась для испытаний со сменой и удержанием. Во-первых, мы проверили, совпадают ли колебания активности в DMN и DAN до суда с величиной поведенческих издержек в RT, связанных с переключением внимания. Для каждой рентабельности инвестиций мы вычислили корреляцию между досудебной активностью от испытания к испытанию и RT отдельно для испытаний смещения внимания и удержания внимания.Во-первых, мы усреднили по вокселям каждой области интереса отдельно для каждого образца досудебной активности и вычислили корреляцию между этими средними значениями досудебной активности и RT для сменных испытаний и испытаний с удержанием независимо. Затем мы провели двусторонний тест t для парных групп по этим корреляциям, чтобы определить, изменяется ли величина поведенческих издержек, связанных с переключением внимания относительно удержания внимания, в зависимости от предсудебной активности в любой сети. В соответствующем анализе мы объединили интервалы смены и проведения пробных RT в соответствии с величиной досудебной активности в каждой сети и проверили, значительно ли различалась величина затрат на смену для трети испытаний с наибольшей досудебной активностью, чем для трети испытаний. с самой низкой досудебной активностью.Чтобы проверить временную специфичность окна, в котором BOLD предсказывает гибкость внимания от испытания к испытанию, мы провели последующий анализ, в котором мы повторили сравнения DMN и DAN для данных, собранных в моменты времени в диапазоне от 4 с до начала сигнала до 4 с после начала кия.
В качестве исследовательского последующего анализа мы затем использовали воксельный подход, как и в более ранних исследованиях колебаний когнитивной гибкости (Leber et al., 2008; Leber, 2010). Мы снова вычислили корреляцию вокселей за вокселями между досудебной активностью и поведенческой RT для испытаний сдвига и удержания независимо для каждого участника, в результате чего были получены две статистические параметрические карты корреляций для каждого участника.На групповом уровне анализа мы затем выполнили двусторонний тест t для парных групп, чтобы определить вокселы, для которых корреляции, усредненные по участникам, различались для испытаний сдвига и удержания. В результате этого анализа были получены воксели, в которых величина затрат на смещение, показатель гибкости внимания, варьировалась в зависимости от внутренней активности мозга до судебного разбирательства.
Наконец, мы проверили, являются ли колебания активности до исследования в областях, связанных со стабильностью внимания, и флуктуации, связанные с гибкостью внимания в анализе всего мозга, однозначно объясняют дисперсию в испытательной RT со сдвигом.Только для сдвиговых испытаний мы z оценили образцы досудебной активности для двух наборов регионов и поведенческие RT независимо для каждого участника, а затем объединили баллы между участниками. Затем мы использовали модель линейной регрессии, чтобы проверить, учитывают ли два набора регионов независимо вариабельность при испытании сдвигом RT.
Определение активности, связанной со сменой.
Чтобы сравнить наши результаты с более ранними исследованиями скрытого контроля внимания (Chiu and Yantis, 2009), мы затем проверили наличие активности мозга, вызванной заданием.Мы использовали модель ARMA (1,1) с ограниченной оценкой максимального правдоподобия временной автокорреляции во временных рядах, чтобы оценить вызванный ответ для каждого из четырех типов событий, представляющих интерес, перечисленных выше. Мы смоделировали период в 10 с, начиная с момента появления сигнала, серией из шести базовых функций FIR-тента, таким образом, не делая никаких предположений о форме гемодинамической реакции. Кроме того, мы включили в модель шесть уничиженных параметров движения испытуемых в качестве регрессоров отсутствия интереса, а также скорректировали линейные и квадратичные тенденции в ЖИРНЫЙ временной ход.Мы подвергли цензуре TR пары, для которых евклидова норма производной движения превышала 0,3 °, как указано выше.
Коррекция множественных сравнений всего мозга.
В связи с нашей гипотезой, что большие корковые области будут связаны со спонтанными флуктуациями гибкости внимания и возможностью слабых эффектов, присущих пробному анализу таких флуктуаций, мы приняли либеральный двусторонний порог роста тонн. (19) = 2,09, p = 0.05 для анализа спонтанных колебаний всего мозга. Однако для более статистически достоверного контраста вызванной активности при сравнении реакции, связанной с испытаниями сдвига и удержания, мы приняли более жесткий порог t (19) = 2,86, p = 0,01. Учитывая эти нескорректированные пороги, все результаты на уровне группы всего мозга были скорректированы для множественных сравнений путем запуска 10000 симуляций Монте-Карло в 3dClustSim для определения вероятности получения кластера значительной активности определенного размера с учетом пространственной гладкости данных.Пространственная гладкость оценивалась по остаткам GLM, в котором мы частично вычленили вызванные задачами и мешающие источники изменчивости. При моделировании учитывались как положительные, так и отрицательные воксели, которые прошли установленный двусторонний порог высоты с учетом синтетического набора данных с такими же размерами вокселей и пространственной гладкостью, что и полученные данные. Все данные EPI были замаскированы в соответствии с шаблоном регистрации, преобразованным в изотропные 2-миллиметровые воксели. Результирующая маска дала порог протяженности 214 смежных вокселей (1712 мм 3 ) для анализа спонтанных флуктуаций и порог протяженности 70 смежных вокселов (560 мм 3 ) для контраста вызванной активности, так что семейная скорость ошибки было p <0.05 для обоих.
Результаты
Поведенческие результаты
Сначала мы проверили, различаются ли поведенческие RT и точность тестов переключения внимания по сравнению с исследованиями удержания внимания. Тест t для парных групп показал, что участники действительно медленнее выносили суждение о паритете в испытаниях смещения внимания (M = 998,29, SD = 117,84) по сравнению с испытаниями удержания внимания (M = 884,70, SD = 128,06), t (19) = 7,64, p <0,001) (рис.3). Кроме того, анализ 16 участников с достоверными данными показал, что не было значительных различий в поведенческой точности для испытаний сдвига (M = 91,49, SD = 6,08) и удержания (M = 91,52, SD = 7,23) ( t ( 15) = 0,05, р = 0,965). Наконец, мы проверили, меняется ли гибкость внимания на основании точности предыдущего исследования. Например, возможно, что участники изменили настройки контроля внимания после ошибок иначе, чем после испытаний с точным ответом.Поэтому мы проанализировали поведенческие RT-данные с помощью дополнительного 2 × 2 ANOVA с факторами текущего типа сигнала (сдвиг против удержания) и точности предыдущего испытания (точный или неточный). Хотя участники в целом были медленнее после испытания, в котором они допустили ошибку ( F (1,15) = 10,64, p = 0,005), значимого взаимодействия типа сигнала и точности предыдущего испытания не наблюдалось ( F (1,15) = 0,21, p = 0,655) (Таблица 1). Затем мы исследовали, могут ли колебания активности головного мозга до судебного разбирательства предсказать величину наблюдаемой стоимости сдвига в ЛТ.
Рисунок 3.Винсентифицированный график времени отклика при оценке четности.
Таблица 1.Средние поведенческие RT как функция точности поведения
Результаты визуализации
Спонтанные флуктуации предсказывают гибкость внимания
Мы проверили, служила ли досудебная активность показателем пространственной гибкости внимания на экспериментальной основе. Чтобы изолировать спонтанные колебания во временном ряду BOLD, мы извлекли образцы досудебной активности после разделения активности, вызванной заданием, и изменчивости неприятностей.Хотя мы решили моделировать испытания поведенческих ошибок с испытаниями правильного ответа в GLM, анализ корреляции RT включал только те испытания, в которых участники отвечали правильно в пределах 2-секундного окна ответа. Поскольку мы извлекли единый том, записанный за две секунды до начала реплики для каждого испытания, из остаточного времени BOLD-активности, наши предварительные измерения не могут отражать раннюю реакцию на смену или удержание реплики. Для каждого участника мы вычислили корреляцию между этими выборками досудебной активности и RT для сдвиговых и удерживающих испытаний отдельно.
Вклад DMN и DAN в гибкость внимания
Учитывая нашу гипотезу, что как DMN, так и DAN могут участвовать в спонтанных колебаниях гибкости внимания, мы сначала независимо определили каждую сеть и провели анализ ROI (см. Материалы и методы). Для каждого участника и каждой сети мы отдельно вычислили корреляцию между досудебной активностью и RT, а затем подвергли эту статистику r тесту t парных групп на уровне группы.Для обеих сетей распределения корреляций сдвига и удержания были нормальными в соответствии с тестами Колмогорова – Смирнова с поправкой на значимость Лиллиефора ( p > 0,095). Поэтому мы не преобразуем корреляции в анализах, представленных ниже, по методу Fisher z . Однако выводы всех представленных здесь тестов остаются идентичными при применении преобразования Фишера. Наш анализ был разработан для выявления обоих регионов, в которых увеличение активности было связано со снижением сменных расходов, как и в более ранних исследованиях (Leber et al., 2008), а также регионов, в которых рост активности был связан с увеличением сменных расходов. Кроме того, колебания досудебной активности могут быть связаны с изменением только пробной интервальной смены времени, только пробной временной смены или одновременной смены пробной интервальной времени и временной интервальной длительности одновременно. Хотя связь между досудебной активностью и RT для сменных испытаний не отличалась от таковой для удерживающих испытаний для DAN ( t (19) = -0,63, p = 0,539), гибкость внимания зависела от досудебных колебаний активность в DMN ( т (19) = 3.55, p = 0,002) (средние корреляции см. В таблице 2). Более того, при усреднении по участникам, RT в сменных испытаниях увеличивались в зависимости от досудебной активности DMN ( t (19) = 4,40, p <0,001), тогда как не было значительных изменений в RT в испытаниях с удержанием ( t (19) = 0,11, p = 0,918). И наоборот, высокая досудебная активность в DAN была связана с более быстрым временем отклика для обоих сдвигов внимания ( t (19) = -4.40, p <0,001) и удержание внимания ( t (19) = -3,36, p = 0,003). В качестве прямого сравнения взаимосвязей между досудебной активностью и RT в двух сетях мы продолжили вышеупомянутый анализ, подвергнув корреляции 2 × 2 ANOVA с факторами типа сигнала (сдвиг против удержания) и сети (DMN против DAN). . Помимо значимых основных эффектов типа кия ( F (1,19) = 6,99, p = 0,016) и сетевого ( F (1,19) = 20.35, p <0,001), наблюдалось значительное взаимодействие двух факторов ( F (1,19) = 7,87, p = 0,011), что свидетельствует о том, что спонтанные колебания активности в DMN до суда и DAN имеют разные последствия для гибкости внимания. Важно отметить, что в то время как повышение активности в DAN до суда было связано с ускорением RT независимо от типа сигнала, возможно, из-за увеличения вовлеченности в задачу, только колебания DMN до суда зависели от гибкости внимания от испытания к испытанию.
Таблица 2.Средние корреляции Пирсона ( r ) между досудебной активностью мозга и RT
Чтобы лучше проиллюстрировать, как поведение менялось в зависимости от досудебной активности DMN и DAN, мы разделили пробные RT на три группы в соответствии с амплитуда досудебной активности и проверила, различалась ли величина стоимости смены в третьем испытании с самой низкой досудебной активностью по сравнению с третьим испытанием с самой высокой досудебной активностью. При биннинге на основе активности DMN, дисперсионный анализ ANOVA с повторными измерениями 2 × 2 с факторами типа сигнала (сдвиг против удержания) и предварительной активности (низкий против высокого) выявил значимые основные эффекты обоих типов сигналов ( F (1,19 ) = 47.00, p <0,001) и предварительная активность ( F (1,19) = 7,69, p = 0,012), так что участники в целом были медленнее, когда активность DMN была высокой. Важно отметить, что в соответствии с приведенным выше корреляционным анализом наблюдалась значительная взаимосвязь типа сигнала и предсудебной активности ( F (1,19) = 6,65, p = 0,018; рис. 4 A ). Когда мы повторили тот же анализ с использованием DAN в качестве ROI, мы обнаружили значимые основные эффекты типа реплики ( F (1,19) = 43.51, p <0,001) и досудебная деятельность ( F (1,19) = 30,80, p <0,001), но нет значимого взаимодействия ( F (1,19) = 0,02, p = 0,880; рис.4 B ). Хотя участники имели более короткие RT, когда предварительная активность DAN была высокой, чем когда она была низкой, это изменение RT было эквивалентным для испытаний со сдвигом и удержанием и, следовательно, не указывает на изменение готовности обновить выбор пространственного внимания.
Рис. 4.Времена поведенческой реакции, распределенные в соответствии с досудебной активностью в DMN ( A ) и DAN ( B ). Планки ошибок обозначают 1 SEM внутри субъекта.
В приведенных выше анализах мы собрали образцы досудебной активности из объема, полученного ближе всего по времени, но до начала сигнала. Учитывая нашу конструкцию, эти образцы появились за 2 секунды до появления сигнала. Мы сосредоточили наш анализ на этом конкретном моменте времени, потому что нас интересовало, предсказывают ли внутренне генерируемые колебания, происходящие до начала сигнала, гибкость проба за пробой, как было продемонстрировано ранее в областях переключения задач и восприимчивости к захвату внимания (Leber et al. al., 2008; Лебер, 2010). Чтобы лучше понять временную динамику того, как внутренние колебания активности мозга соотносятся с текущими изменениями гибкости внимания, мы повторили вышеупомянутые анализы, используя образцы активности мозга в диапазоне от 4 с до начала сигнала до 4 с после начала сигнала. Для DMN мы наблюдали такую же значительную разницу между корреляциями пробного сдвига и корреляциями пробного удержания за 4 с до начала сигнала ( t (19) = 2,84, p = 0.010) и в момент начала реплики ( t (19) = 2,15, p = 0,045; Рис.5 A ). В обоих случаях тесты t на одной выборке показали, что корреляции в среднем были значительно больше 0 ( t > 3,41, p <0,004), тогда как корреляции испытаний удержания существенно не отличались от 0 ( t <0,69, p > 0,502. Кроме того, колебания DAN не могли зависеть от гибкости внимания в оба момента времени ( t <0.59, p. > 0,568; Рис.5 B ). Таким образом, наши вышеуказанные результаты не относятся к образцам, взятым за 2 секунды до начала сигнала.
Рис. 5.Средние корреляции между внутренней активностью мозга и поведенческой RT как функция времени относительно начала сигнала для DMN ( A ) и DAN ( B ). Точка времени 0 обозначает время начала сигнала.
Затем мы исследовали, продолжает ли активность DMN по-разному предсказывать сдвиг и удержание пробного RT во временном окне после начала сигнала.Повышенная активность в DMN была связана с отсутствием внимания (Weissman et al., 2006; например, Christoff et al., 2009), и поэтому взаимосвязь между активностью мозга и поведенческими характеристиками может меняться в зависимости от временного окна интереса. В поддержку более тонкой взаимосвязи между активностью DMN и подготовительным контролем внимания, корреляции между активностью мозга и поведенческими характеристиками для испытаний переключения и удержания не различались на уровне группы для образцов, взятых как через 2, так и через 4 секунды после предъявления сигнала ( т <0.33, p > 0,746). Интересно, что как через 2, так и через 4 секунды после начала сигнала, активность DMN была связана с повышенным RT для испытаний как сдвига, так и удержания ( t > 5,34, p <0,001). Таким образом, позднее увеличение активности было связано с медленным выполнением задачи независимо от типа сигнала. Как и во временном окне, предшествующем началу метки, мы не наблюдали разницы в корреляциях пробного сдвига и удержания для DAN в окне пост-метки ( t <1.06, p > 0.306).
Наконец, мы сравнили взаимосвязь между активностью мозга DMN и гибкостью внимания во временном окне, непосредственно предшествующем началу сигнала, с тем, которое происходит после начала сигнала путем сжатия предварительного сигнала (2 и 4 секунды до сигнала) и пост-сигнала (2 и 4 s после реплики) корреляции для каждого участника. ANOVA с повторными измерениями с факторами типа реплики (сдвиг против удержания) и временного окна (до и после реплики) дал значительные основные эффекты типа реплики ( F (1,19) = 6.57, p = 0,019) и временное окно ( F (1,19) = 24,21, p <0,001), которые были квалифицированы значимым сигналом взаимодействием окна ( F (1, 19) = 6,01, р = 0,024). Только ранние колебания активности DMN предсказывали продолжающиеся изменения подготовительных состояний гибкости внимания.
Анализ всего мозга
После целевого подхода ROI мы провели анализ всего мозга, чтобы определить, предсказывают ли спонтанные колебания активности в каких-либо дополнительных областях мозга текущие изменения гибкости внимания.Вместо того, чтобы усреднять вокселы в пределах ROI, мы вычислили пробные корреляции сдвига и удержания независимо для каждого воксела и провели тест t для парных групп вокселов, чтобы определить регионы, в которых величина сдвиговых затрат варьировалась в зависимости от досудебной активности (Leber, 2010 ). Учитывая нашу заинтересованность в том, чтобы связать внутренние колебания подготовительной мозговой активности с моментальными изменениями поведенческих характеристик, мы сосредоточились на образцах, взятых за 2 секунды до появления сигнала для всех остальных анализов.Как показано на Рисунке 6, мы определили несколько регионов, для которых досудебные флуктуации активности предсказывали моментальное увеличение или уменьшение гибкости внимания в дополнение к тем, которые уже содержатся в ROI DMN. В дополнение к значительным скоплениям в предклинье, vmPFC и двусторонней латеральной теменной коре, которые в значительной степени перекрывались с областями, протестированными как ROI DMN, с состояниями были связаны левая передняя верхняя лобная извилина (aSFG) и правая передняя медиальная лобная кора. повышенной устойчивости внимания (см. таблицу 3 для координат, объемов и средних корреляций).Напротив, значимые кластеры, падающие в двусторонний передний островок (AI), а также в пре-дополнительную моторную зону / дополнительную моторную зону (пре-SMA / SMA) демонстрировали противоположную взаимосвязь. В частности, затраты на смену снизились в зависимости от активности до начала исследования в AI и pre-SMA / SMA, предполагая, что спонтанное увеличение активности было связано с увеличением гибкости внимания.
Рис. 6.Области, в которых внутренние флуктуации предсказывают моментальную гибкость внимания.Высокая предсудебная активность в областях, показанных красным, была связана с повышением устойчивости внимания; высокая досудебная активность в областях, выделенных синим цветом, была связана с увеличением гибкости внимания.
Таблица 3.Области, прогнозирующие моментальную гибкость в анализе всего мозга
Хотя основной целью эксперимента было выявление областей, в которых прогностическая взаимосвязь между предследовательной активностью и поведенческими характеристиками различалась для испытаний с переключением и удержанием внимания мы также проверили относительный вклад регионов, связанных со стабильностью и гибкостью, указанных выше, которые вместе служат предикторами RT.Мы сосредоточились на испытаниях с переключением внимания, потому что анализ ROI DMN показал, что досудебная активность DMN существенно не зависела от RT с удержанием. Мы провели усреднение по областям, связанным со стабильностью и гибкостью, для каждого участника, чтобы получить два образца досудебной активности. Затем мы оценили образцы активности мозга до начала испытания и поведенческих RT для каждого участника z и объединили участников, чтобы запустить единую регрессионную модель. Наконец, мы провели прямую пошаговую линейную регрессию для прогнозирования RT на основе досудебной активности в областях, связанных со стабильностью и гибкостью.В первой модели высокая досудебная активность в областях, связанных со стабильностью, была связана с увеличением времени смены пробной RT (β = 0,101, t = 6,19, p <0,001, скорректированный R 2 = 0,010), как и следовало ожидать от способа определения этих регионов. Однако важно отметить, что как области, связанные со стабильностью (β = 0,072, t = 4,04, p <0,001), так и области, связанные с гибкостью (β = -0,071, t = -4.00, p <0,001) служили значимыми предикторами RT испытательного сдвига, когда в регрессионной модели вместе (скорректировано R 2 = 0,014). Как отражено в скорректированном R 2 , приведенном выше, включение обоих наборов областей не привело к значительному увеличению процента дисперсии RT, которое объяснялось досудебной активностью мозга. Однако, несмотря на то, что прогностические отношения между досудебной деятельностью и RT невелики, важное наблюдение для текущего интересующего вопроса состоит в том, что они значительно различаются.Множественный регрессионный анализ дополняет этот вывод, показывая, что оба набора регионов однозначно способствуют прогнозированию пробного RT сдвига.
Изучение активности, вызванной заданием
В повторении предыдущих исследований мы также исследовали активность, вызванную заданием. Чтобы определить, существуют ли различия на уровне группы в вызванной активности по четырем типам испытаний, мы суммировали β-веса 10 базисных функций, чтобы вычислить площадь под кривой (AUC) для каждого типа испытаний. ANOVA с повторными измерениями всего мозга для AUC выявил сходные доказательства в поддержку предыдущих отчетов о постоянной и временной нейронной активности, связанной со сдвигом (Chiu and Yantis, 2009).Как показано на Рисунке 7, наблюдалось временное увеличение активности для сдвига по сравнению с испытаниями удержания в серии лобных и теменных областей, что, как показали предыдущие исследования, в скрытых сдвигах пространственного внимания (см. Таблицу 4 для координат и объемов Талаираха).
Рис. 7.Переходные операции, связанные со сменой, на частично завышенном 3D-рендеринге шаблона Talairach, используемого для совместной регистрации. mSPL, Medial SPL; SFS, верхняя лобная борозда; SMG, надмаргинальная извилина; TPJ, височно-теменное соединение; MFG, средняя лобная извилина; ПКГ, постцентральная извилина; IPS, внутри теменная борозда.
Таблица 4.Области, демонстрирующие активность, связанную со сменой
Наконец, мы проверили, существует ли значительная разница в вызванной активности в любой из областей, определенных в приведенном выше анализе всего мозга как индексация гибкости внимания от испытания к испытанию. Такое различие могло свидетельствовать о том, что взаимосвязь между досудебной деятельностью и гибкостью от испытания к испытанию была отчасти связана с неполным удалением активности, вызванной заданием, из ЖИРНЫХ временных рядов. Вопреки этому мнению, средняя вызванная активность при испытаниях смещения внимания и удержания внимания существенно не различалась ни в одной из областей, которые предсказывали гибкость внимания от испытания к испытанию в анализе всего мозга ( t <1.88, p > 0,075).
Обсуждение
В текущем исследовании мы изучали, предсказывают ли спонтанные флуктуации активности мозга до судебного разбирательства моментальные изменения в подготовительном контроле над пространственным выбором внимания. В частности, мы стремились идентифицировать области мозга, для которых прогностическая взаимосвязь между досудебной активностью и ОТП различалась для испытаний, требующих скрытого смещения внимания, по сравнению с теми, в которых участники удерживали скрытое внимание в одном периферийном месте.Мы обнаружили, что предварительная активность в пределах предклинья, правой передней медиальной лобной коры, левой aSFG, vmPFC и двусторонней латеральной теменной коры зависела от гибкости внимания, так что высокая активность была связана с увеличением затрат на смещение внимания. И наоборот, AI и pre-SMA / SMA продемонстрировали противоположную взаимосвязь, так что увеличение активности было связано с более низкими затратами на смену, что указывает на готовность обновить выбор по вниманию.
Результаты текущего исследования расширяют роль ключевых регионов DMN за пределы индексации обобщенных уровней вовлеченности или степени внутренней направленности познания, как предлагалось ранее.Напротив, наши результаты свидетельствуют о том, что продолжающиеся спонтанные изменения в активности могут иметь различные поведенческие последствия в зависимости от того, нужно ли участнику переключить внимание или вместо этого сохранить фокус внимания в одном месте. Важно отметить, что как испытания смены, так и испытания удержания в текущем эксперименте требовали, чтобы участники обнаруживали кратко представленную реплику среди потока элементов-отвлекающих наполнителей, и поэтому предъявляли одинаковые требования к привлечению внимания. Если бы досудебная деятельность предсказывала чистое вовлечение без каких-либо изменений в подготовке к переключению внимания, мы бы наблюдали аналогичные поведенческие последствия как для испытаний, так и для испытаний с удержанием.Мы не обнаружили никаких доказательств того, что даже тенденция к тому, что более медленные испытания ЛТ в режиме ожидания связаны с более высокой досудебной активностью DMN. Скорее, значимой была разница между испытаниями сдвига и удержания в отношении корреляции RT-активность. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, могут ли легкие состояния низкой вовлеченности в задачи, связанные с высокой активностью DMN, предрасполагать участников к принятию стабильного состояния внимания, которое в конечном итоге замедляет их время для переключения внимания, но не их RT к целям в текущем локусе внимания.С другой стороны, колебания активности до начала исследования в предклинье, vmPFC и латеральной теменной коре могут влиять на стабильность внимания независимо от выполнения задачи.
В отличие от образцов активности DMN, взятых до начала реплики, те, которые падают после реплики, были связаны с эквивалентным увеличением как сдвига, так и удержания пробного RT. Как самооценка низкой вовлеченности во время повторяющихся и утомительных задач с устойчивым вниманием (Christoff et al., 2009), так и замедление поведения в перцептивных суждениях, требующих концентрации внимания (Weissman et al., 2006) были связаны с повышенной активностью DMN. Более того, повышенная активность предстимульного DMN была связана с повышенным уровнем поведенческих ошибок (Eichele et al., 2008; Li et al., 2007). Таким образом, наши результаты после сигнала дополняют эти предыдущие выводы, предполагая, что высокая активность DMN при некоторых обстоятельствах связана с нарушением обнаружения стимула. Однако, в отличие от этих более ранних исследований, только увеличение активности DMN во время окна поведенческой реакции снижало производительность независимо от типа испытания.Важно отметить, что хотя гемодинамический ответ достигает пика за несколько секунд, он начинается немедленно. Таким образом, наши образцы активности после сигнала могут отражать изменения активности мозга, связанные с получением самого сигнала и принятием решения о четности. Как было продемонстрировано в других областях познания (Sadaghiani et al., 2009), связь между колебаниями активности DMN и изменениями в поведенческих характеристиках более тонкая, чем простое изменение уровня вовлеченности.Наши результаты новы в том, что они предоставляют доказательства того, что досудебные колебания активности DMN имеют последствия для гибкости контроля внимания, помимо любых изменений в обобщенном выполнении задачи.
Недавно другие предположили, что взаимосвязь между активностью DMN и поведенческими характеристиками варьируется в зависимости от флуктуирующих когнитивных состояний, которые модулируют вариабельность ответа (Esterman et al., 2013, 2014). В одном недавнем исследовании периоды низкой вариабельности RT были связаны с повышенной активностью в DMN, а высокая активность DMN предшествовала испытаниям, в которых участники теряли внимание.Напротив, в периоды меньшей стабильности, на что указывают более изменчивые RT, активность DMN существенно не различалась перед испытаниями потери внимания и правильного ответа. Напротив, активность DAN была выше до получения точных ответов, чем пропадания в эти менее стабильные периоды (Esterman et al., 2013). Таким образом, наши результаты сходятся в предположении, что умеренное повышение активности в DMN, но не в областях исполнительного контроля лобной и теменной коры, связано с подготовительными состояниями стабильности поведения.Важно отметить, что наше исследование расширяет эти результаты от парадигмы обнаружения цели до парадигмы, в которой участникам периодически давали команду обновить пространственный фокус внимания, что позволяет нам отличать стабильность внимания от упущений.
В дополнение к тем регионам, которые составляют DMN, мы обнаружили доказательства того, что двусторонний AI и пре-SMA / SMA также были связаны с колебаниями гибкости внимания от испытания к испытанию, но эти области показали противоположную взаимосвязь, так что участники были более готовы переключить внимание по мере увеличения досудебной активности.Недавние достижения позволили предположить, что ИИ играет роль как в обнаружении значимости, так и в модулировании относительного взаимодействия различных сетей мозга в ответ на физически значимое событие (для обзора см. Menon and Uddin, 2010). Шридхаран и его коллеги (2008) продемонстрировали, что ИИ играет причинную роль в изменении взаимного баланса активности между DMN и DAN во время выполнения задачи, даже в отсутствие задачи (Sridharan et al., 2008). Хотя в текущем исследовании мы не обнаружили существенной взаимосвязи между модуляциями гибкости внимания и компонентами DAN, обратная взаимосвязь между досудебной деятельностью ИИ и величиной сменных затрат подтверждает роль ИИ в регулировании баланса активности между режим по умолчанию и DAN.Наши результаты предоставляют дополнительные доказательства того, что ИИ может способствовать спонтанным изменениям баланса активности в мозговых сетях, и дает представление о том, как эти спонтанные изменения соотносятся с моментальными колебаниями поведенческой деятельности.
Одним из объяснений различий между нашими выводами и предыдущими исследованиями (Leber et al., 2008) может быть характер подготовки к скрытому смещению внимания по сравнению с правилами набора задач обновления. В случае переключения задач участник может иметь возможность выполнить переключение правил до появления стимулов и все же иметь возможность точно завершить испытание.Например, повышенная подготовительная активность в регионах, важных для выполнения переключения задач, может дать поведенческое преимущество для испытаний переключения задач по сравнению с испытаниями с удержанием задач. Однако в области пространственного внимания предпочтительный выбор обслуживаемого местоположения может препятствовать обнаружению визуальной подсказки в ранее посещенном месте и, следовательно, ухудшать точность работы. Внутреннее повышение активности в областях, участвующих в ориентировании внимания, может, следовательно, иметь более слабые поведенческие преимущества, чем в случае переключения задач.Поэтому всеобщность спонтанных колебаний когнитивной гибкости в таких областях, как выбор внимания, обновление набора задач и манипулирование представлениями в рабочей памяти, остается вопросом без ответа.
Взаимодействие спонтанных изменений мозговой активности с другими факторами, влияющими на гибкость внимания, остается важной темой исследования. Генетические полиморфизмы, регулирующие ПФК и дофамин полосатого тела, были связаны со стойкими индивидуальными различиями когнитивной гибкости на уровне признаков (Cools, 2008; Cools and D’Esposito, 2011).В частности, повышенный исходный уровень дофамина в ПФК связан с большей когнитивной стабильностью, тогда как повышенный уровень дофамина в полосатом теле ассоциируется с повышенной гибкостью за счет повышенной отвлекаемости (Nolan et al., 2004; Bertolino et al., 2006; Heatherton and Вагнер, 2011). Таким образом, областью будущих исследований остается взаимосвязь между нейробиологическими основами стойких индивидуальных различий в когнитивной гибкости и величиной и скоростью спонтанных колебаний в подготовительных контрольных состояниях.
Настоящее исследование имеет важное значение для понимания механизмов внимания и его дисфункции. Например, у детей с СДВГ время отклика на задания по торможению ответа более разное, чем у детей без нарушений (Vaurio et al., 2009). Продолжительные периоды когнитивной гибкости в ситуациях, когда есть много отвлекающих факторов, могут способствовать появлению симптомов невнимательности, которые являются отличительной чертой СДВГ. Таким образом, изучение нейронных механизмов, лежащих в основе флуктуаций контроля внимания, может улучшить наше понимание нейронной основы гибкости и стабильности внимания и того, как потенциальная дисфункция этих механизмов может способствовать нарушениям когнитивного контроля.
Мы исследовали нейронные основы ежеминутных флуктуаций способностей людей управлять скрытым пространственным вниманием. Наши результаты показывают, что колебания активности в компонентах DMN, AI и колебания индекса pre-SMA / SMA влияют на готовность людей переключать или удерживать внимание. Это определение нейронных основ спонтанных флуктуаций когнитивного контроля будет способствовать нашему пониманию нейронных механизмов, участвующих как в нормальных вариациях контроля внимания, так и в клинических нарушениях при психопатологии и расстройствах зависимости.
Сноски
Это исследование было поддержано Национальными институтами здравоохранения (грант R01-DA013165 для S.Y. и S.M.C.) и Национальным научным фондом (грант GRFP DGE-0707427 для A.W.S.). Благодарим М. Холла за помощь в сборе данных.
Авторы заявляют об отсутствии конкурирующих финансовых интересов.
- Для корреспонденции Энтони В. Сали, Центр когнитивной неврологии, Университет Дьюка, LSRC Box #, Дарем, NC 27708.anthony.sali {at} duke.edu
(PDF) Влияние возраста и разделения внимания на спонтанное распознавание
Балота, Д.А., Яп, М.Дж., Кортезе, М.Дж., Хатчисон, К.И., Кесслер, Б.,
Лофтис, Б. и др. (2007). Проект английской лексики. Поведение
Методы исследования, 39, 445–459.
Бернцен, Д. (2007). Непроизвольные автобиографические воспоминания: предположения,
находок и попытка их интегрировать. В J.H. Mace (Ed.),
Непроизвольная память (стр.20–49). Мальден, Массачусетс: Блэквелл.
Бернцен, Д. (2010). Непрошенное прошлое: Непроизвольные автобиографические
воспоминаний как основной способ запоминания. Текущие направления
Психологическая наука, 19 (3), 138–142.
Бравер, Т. С., Раш, Б. К., Сатпуте, А. Б., и Барч, Д. М. (2005).
Обработка контекста и поддержание контекста в здоровом старении и
деменция ранней стадии типа Альцгеймера. Психология и
Старение, 20,33–46.
Берджесс П. У. и Шаллис Т. (1996). Конфабуляция и контроль памяти
. Память, 4 (4), 359–411.
Кэмпбелл, К. Л., Хашер, Л., и Томас, Р. С. (2010). Hyper-binding:
Уникальный эффект возраста. Психологическая наука, 21, 399–405.
Коннелли, С. Л., Хашер, Л., и Закс, Р. Т. (1991). Возраст и чтение:
Влияние отвлечения внимания. Психология и старение, 6, 533–541.
Крейк, Ф. И. М. (1982). Выборочные изменения в кодировании в зависимости от
уменьшили производительность обработки.В F. Klix, J. Hoffman, & E. van der
Meer (Eds.), Когнитивные исследования в психологии (стр. 152–161).
Берлин: Deutscher Verlag der Wissenschaffen.
Крейк, Ф. И. М. (1983). Возрастные различия в запоминании. В Н. Баттерс
и Л. Р. Сквайр (ред.), Нейропсихология памяти (стр. 3–12).
Нью-Йорк: Guildford Press.
Крейк, Ф. И. М., и Дженнингс, Дж. М. (1992). Человеческая память. В F. I. M.
Craik & T.A. Salthouse (Eds.), Справочник по старению и познанию
(стр. 51–110). Хиллсдейл, Нью-Джерси: Лоуренс Эрлбаум
Associates, Inc.
Додсон, К. С., и Шактер, Д. Л. (2002). При ложном распознавании
встречает метапознание: эвристика различимости. Журнал
Память и язык, 46, 782–803.
Дучек, Дж. М., Балота, Д. А., и Тессинг, В. К. (1998). Подавление
визуальной и концептуальной информации во время чтения у здоровых
старения и болезни Альцгеймера.Старение, нейропсихология и познание
, 5, 169–181.
Duverne, S., Motamedinia, S., & Rugg, M. D. (2009). Влияние возраста
на нейронные корреляты обработки сигналов поиска модулируется
требованиями задачи. Журнал когнитивной нейробиологии, 21,1–17.
Диван Дж. И Мерфи У. Э. (1996). Контроль старения и подавления в понимании текста
. Психология и старение, 11, 199–206.
Эриксен, Б.А., Эриксен, К.В., и Хоффман, Дж.Э. (1986). Распознавание
память и выбор внимания: последовательного сканирования недостаточно.
Журнал экспериментальной психологии: человеческое восприятие и
Производительность, 12, 476–483.
Галло, Д. А., Котел, С. К., Мур, К. Д., и Шактер, Д. Л. (2007). Старение
может избавить от мониторинга извлечения на основе воспоминаний: важность различимости событий
. Психология и старение, 22,209–213.
Hasher, L., Lustig, C., & Zacks, R.Т. (2007). Тормозные механизмы
и контроль внимания. В A. Conway, C. Jarrold, M. Kane,
A. Miyake, & J. Towse (Eds.), Variation in the worker memory (pp.
227–249). Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета.
Хашер Л. и Закс Р. Т. (1988). Рабочая память, понимание,
и старение: обзор и новый взгляд. В Г. Г. Бауэре (ред.), Психология обучения и мотивации
(Том 22) (стр. 193–225).
Сан-Диего, Калифорния: Academic Press.
Хикс, Дж. Л., и Марш, Р. Л. (2000). К уточнению требований внимания
памяти распознавания. Журнал экспериментальной
Психология. Обучение, память и познание, 26, 1483–1498.
Джейкоби, Л. Л. (1991). Структура разделения процессов: отделение
автоматического от преднамеренного использования памяти. Журнал памяти
и язык, 30, 513–541.
Джейкоби Л. Л. и Даллас М. (1981). О связи между
иавтобиографической памятью и перцептивным обучением.Journal of
Experimental Psychology: General, 3, 306–340.
Джейкоби, Л. Л., Келли, К. М., и МакЭлри, Б. Д. (1999). Роль когнитивного контроля
: ранний выбор против поздней коррекции. В S.
Chaiken & Y. Trope (Eds.), Теории двойного процесса в социальной психологии
(стр. 383–400). Нью-Йорк: Гилфорд Пресс.
Якоби, Л. Л., Симидзу, Ю., Дэниелс, К. А., и Родс, М. Г. (2005).
Режимы когнитивного контроля при распознавании и исходной памяти:
Глубина поиска.Психономический бюллетень и обзор, 12, 852–857.
Джейкоби, Л. Л., Симидзу, Ю., Веланова, К., и Родос, М. Г. (2005).
Возрастные различия в глубине поиска: Память для фольги. Журнал
памяти и языка, 52, 493–504.
Джейкоби, Л. Л., и Уайтхаус, К. (1989). Иллюзия памяти: ложное
распознавание под влиянием бессознательного восприятия. Journal of
Experimental Psychology: General, 118, 126–135.
Джейкоби, Л.Л., Волошин В. и Келли К. (1989). Стать знаменитым
, но не быть признанным: бессознательное влияние памяти
, вызванное разделением внимания. Журнал экспериментальной психологии:
Общее, 118,115–125.
Джеймс У. (1890). Принципы психологии (т. 1). Нью-Йорк:
Генри Холт и Ко.
Дженнингс, Дж. М., и Джейкоби, Л. Л. (1993).
использования памяти: автоматическое и преднамеренное использование памяти: старение, внимание и контроль.Психология и
Старение, 8, 283–293.
Дженнингс, Дж. М., и Джейкоби, Л. Л. (1997). Процедура возражения для
, обнаруживающая возрастные нарушения в памяти: отчетливые эффекты повторения
. Психология и старение, 12, 352–361.
Джонстон В. А., Хоули К. Дж., Плеве С. Х., Эллиотт Дж. М. Г. и
Девитт М. Дж. (1990). Привлечение внимания новыми стимулами. Журнал
экспериментальной психологии: общие, 119, 397–411.
Квавилашвили, Л., & Мандлер, Г. (2004). Out of one’s mind: Astudyof
непроизвольных семантических воспоминаний. Когнитивная психология, 48,47–94.
Люстиг, К., Хашер, Л., и Тонев, С. Т. (2006). Отвлечение как определяющий фактор скорости обработки
. Психономический бюллетень и
Review, 13, 619–625.
Мейс, Дж. (2006). Эпизодическое запоминание создает доступ к непроизвольной сознательной памяти
: демонстрация непроизвольного вспоминания в задаче произвольного вспоминания
.Память, 14, 917–924.
МакЛауд, К. М. (1991). Полвека исследований эффекта Струпа:
Интегративный обзор. Психологический бюллетень, 109,163–203.
Мэдиган, С. (1983). Картинная память. В J. C. Yuille (Ed.), Imagery,
,, память и познание: Очерки в честь Аллана Пайвио (стр. 65–89).
Хиллсдейл, Нью-Джерси: Эрлбаум.
Мандлер Г. (1980). Признание: суждение о предыдущем происшествии.
Психологическое обозрение, 87,252–271.
Марш, Р. Л., Микс, Дж. Т., Кук, Г. И., Кларк-Фус, А., Хикс, Дж. Л., &
Брюэр, Г. А. (2009). Ограничения поиска на интерфейсе
создают различия в воспоминаниях при последующем тесте. Журнал
Память и язык, 61, 470–479.
Mayr, U., & Kliegl, R. (2000). Переключение набора задач и долгосрочное извлечение памяти
. Журнал экспериментальной психологии. Обучение,
Память и познание, 26, 1124–1140.
Милхэм, М. П., Эриксон, К. И., Банич, М. Т., Крамер, А. Ф., Уэбб,
А., Всалек, Т. и др. (2002). Контроль внимания в стареющем мозге
: выводы из исследования фМРТ задачи струпа. Мозг и
Познание, 49, 277–296.
Морком, А. М., & Рагг, М. Д. (2004). Влияние возраста на обработку сигнала извлечения
, выявленное ERP. Neuropsychologia, 42 (11),
1525–1542.
Москович, М. (1994). Когнитивные ресурсы и двойная задача вмешательства. Эффекты
при извлечении у нормальных людей: роль лобных долей и медиальной височной коры
.Нейропсихология, 8,524–534.
Москович М. и Мело Б. (1997). Стратегическое извлечение и лобные доли
: данные конфабуляции и амнезии. Neuropsychologia,
35, 1017–1034.
Муттер, С.А., Нейлор, Дж. К., и Паттерсон, Э. Р. (2005). Влияние возраста
и контекста задачи на выполнение задачи Струпа. Память и
Познание, 33, 514–530.
734 Mem Cogn (2011) 39: 725–735
Колебания постстимульного внимания во время кодирования памяти от проб к пробам предсказывают последующую производительность памяти ассоциативного контекста
1.Введение
Обучение и память зависят от взаимодействия различных основных операций и процессов. Например, хотя интуиция указывает на то, что необходимо сосредоточить наше внимание во время лекции или в классе, чтобы улучшить кодирование и последующее запоминание информации, наше внимание постоянно колеблется между « хорошим » и « плохим » состояниями (Esterman et al. , 2013, 2014; Розенберг и др., 2013). Таким образом, эти постоянные колебания состояния внимания во время кодирования могут влиять на производительность эпизодической памяти или нашу способность вспоминать событие и его пространственно-временной контекст (Markant et al., 2014; Тулвинг, 2002). Действительно, для любого конкретного человека скорость обучения и формирования памяти со временем меняется отчасти из-за колебаний нейронных сигналов, лежащих в основе текущего уровня внимания человека (Fernandez et al., 1999; Yoo et al., 2012). В настоящем исследовании мы предлагаем новую парадигму для изучения того, могут ли флуктуации состояния внимания, предшествующие и следующие за эпизодическим событием, которое должно быть закодировано, предсказывать, будет ли оно вызвано вместе с его контекстными деталями.
Предыдущие исследования, изучающие роль внимания в кодировании эпизодической памяти, в основном полагались на парадигмы двойного задания или разделенного внимания (Anderson et al., 1998; Craik et al., 1996; 2018; Naveh-Benjamin et al., 1998; Troyer et al., 1999; Troyer & Craik, 2000). Эти парадигмы исследуют этапы обработки памяти, наиболее подверженные сбоям в результате отвлечения внимания, и, следовательно, те, которые больше всего нуждаются в ресурсах внимания в нормальных условиях (Hannula, 2018).В парадигмах разделенного внимания участников просят закодировать список слов, одновременно выполняя второстепенное задание (например, отслеживая определенные тоны) (Anderson et al., 1998; Kensinger et al., 2003; Park et al., 1989) . По сравнению с кодированием в условиях полного внимания, разделение внимания при кодировании ухудшает свободное запоминание, воспроизведение с помощью команды и характеристики памяти распознавания (Anderson et al., 1998; Baddeley et al., 1984; Craik et al., 1996, 2018; Fernandes & Moscovitch , 2000; Naveh-Benjamin & Guez, 2000).Более того, затраты на производительность памяти при разделенном внимании выше для деталей контекстной памяти по сравнению с памятью элементов, особенно когда пространственное расположение используется в качестве задачи контекстной памяти (Troyer et al., 1999; Troyer & Craik, 2000). Напротив, разделение внимания при поиске оказывает минимальное влияние на производительность памяти (Craik et al., 1996; Naveh-Benjamin et al., 1998; Naveh-Benjamin et al., 2006). Эти результаты были интерпретированы, чтобы предположить, что операции кодирования памяти особенно требовательны к ресурсам внимания.
Точные механизмы, с помощью которых внимание формирует кодирование эпизодической памяти, еще предстоит полностью раскрыть. Однако новые данные из литературы по нейровизуализации демонстрируют, что состояние мозга, возникающее до предъявления стимула, влияет на формирование памяти для этого стимула (Fernandez et al., 1999; Guderian et al., 2009; Otten et al., 2006; Turk-Browne et al., 2006; Yoo et al., 2012). Например, функциональная связь между теменными областями мозга, опосредующими внимание, и задней перцептивной корой при кодировании была сильнее во время предъявления сигналов, связанных с запомненными, по сравнению с забытыми (Uncapher et al., 2011). Это говорит о том, что внимание может диктовать, будет ли стимул успешно закодирован во время подготовительного периода, даже до того, как стимул будет предъявлен. Тем не менее, в меньшем количестве исследований изучались поведенческие маркеры внимания до стимула в связи с формированием эпизодической памяти.
Исследователи обычно использовали вариации задачи устойчивого внимания к ответу (SART; Robertson et al., 1997), чтобы исследовать, как состояние внимания перед стимулом влияет на кодирование памяти. Традиционный SART требует, чтобы участники нажимали кнопку в ответ на частый нецелевой стимул (GO) и воздерживались от нажатия кнопки, когда на экране появляется нечастый целевой стимул (NOGO).Неспособность подавить ответы на стимулы NOGO использовалась для индексации нарушений внимания. Отличительной особенностью SART является ускорение RT до стимула NOGO, предшествующего ошибке, с последующим замедлением RT до стимула GO после ошибки. Такое изменение RT, возможно, отражает отвлечение внимания от информации, относящейся к задаче, и перенаправление ресурсов внимания на текущую задачу, соответственно (Manly et al., 1999; Robertson et al., 1997). В одном исследовании использовался вариант SART для изучения того, как колебания внимания во время кодирования влияют на производительность вербальной памяти (Smallwood et al., 2006). В этом исследовании участникам была показана последовательность часто встречающихся нецелевых слов (GO), на которые их просили ответить, и нечастых целевых слов (NOGO), для которых их просили воздержаться от ответа. Участникам было назначено случайное или преднамеренное условие кодирования представленных слов. Эффективность поиска измерялась посредством повторного вызова, а результаты анализировались методом диссоциации процесса (Jacoby, 1998), чтобы различить, были ли извлечены слова на основе воспоминания или на основе знакомства.Независимо от группового распределения участники не показали разницы в вероятности вспоминания или воспоминаний на основе знакомства до ошибки (т. Е. Ответа на стимул NOGO). Тем не менее, они с большей вероятностью находили слова на основе воспоминаний после того, как была сделана ошибка, предположительно отражая перенаправление внимания при кодировании информации, относящейся к задаче, тем самым увеличивая шансы на вспоминание на основе воспоминаний (Smallwood et al., 2006) . В другом исследовании изучалось влияние спонтанных колебаний уровня внимания на производительность случайного кодирования (deBettencourt et al., 2018). Участникам без задержки последовательно показывали серию изображений, каждое по 1 секунде. Для каждого изображения их попросили принять категоричное решение как можно быстрее, нажав кнопку, чтобы указать, отражает ли изображение сцену в помещении или на улице. Задача была разработана таким образом, чтобы 90% изображений были из одной категории (например, наружные), а 10% — из другой, что обеспечивало повторяемость задачи.
Подобно типичной задаче SART, участники могут привыкнуть реагировать на частые стимулы GO (т.е., на открытом воздухе), когда внимание, по-видимому, было отвлечено от задачи, что отражено относительно более быстрыми RT, и, следовательно, с большей вероятностью совершит ошибку совершения (то есть нажатие на открытом воздухе для внутреннего стимула). Напротив, было предсказано, что, когда внимание участников было направлено на задачу, они с меньшей вероятностью будут демонстрировать более быстрые RT и с меньшей вероятностью совершат ошибки в задаче. Действительно, результаты подтвердили эти прогнозы. Что еще более важно, при оценке эффективности поиска для нечастых стимулов NOGO, стимулы с большей вероятностью были забыты, если среднее время ожидания трех предыдущих стимулов было относительно быстрым, предположительно отражая потерю внимания до стимула.Основываясь на этих результатах, авторы создали адаптивную задачу в реальном времени для систематического представления стимулов из нечастой категории, когда состояние внимания участника могло упасть ниже определенного порога. Этот порог был основан на скользящем среднем значении RT трех стимулов, предшествующих определенному стимулу. Результаты были воспроизведены, и память на нечастые стимулы была хуже, когда внимание участников до стимула находилось в скомпрометированном состоянии (deBettencourt et al., 2018).
Результаты исследований, описанных выше, которые объединили SART с традиционными парадигмами памяти, подтверждают идею о том, что приливы и отливы состояния внимания могут влиять на точность запоминания элементов даже до того, как элементы будут представлены.Тем не менее, остается неясным, как колебания внимания перед стимулом при кодировании могут повлиять на производительность контекстной памяти. Поскольку кодирование контекстных деталей, относящихся к элементу, требует больших усилий и требует больших ресурсов внимания по сравнению с распознаванием элементов памяти (Troyer et al., 1999; Troyer & Craik, 2000), вполне вероятно, что спонтанные падения уровня внимания до предъявления стимула могут по-разному влияют на контекстную память по сравнению с памятью элементов, однако, насколько нам известно, это предположение еще не было проверено.Кроме того, важно отметить, что результаты вышеупомянутых исследований, сочетающих в себе парадигмы адаптивного SART и памяти, следует интерпретировать с осторожностью. Критика была поднята по поводу потенциального влияния компромиссов скорости-точности в отношении задачи SART. То есть ошибки при выполнении SART (ответ на стимул NOGO) могут фактически отражать индивидуальные различия в стратегиях скорости реакции, а не нарушенное состояние внимания как таковое (Helton, 2009; Helton et al., 2009; Seli et al., 2012; Сели и др., 2013а; Сели и др., 2013b). Например, Сели и др. (2013b) продемонстрировали, что ошибки ввода в действие SART систематически менялись с управляемыми различиями в задержке ответа, в том смысле, что более медленные ответы генерировали меньше ошибок. Это говорит о том, что ошибки SART могут не просто отражать недостаточное внимание как таковое, но на них существенно влияют индивидуальные различия в компромиссах между скоростью, точностью и точностью. Наконец, в то время как SART позволяет исследовать, как уровни внимания перед стимулом влияют на успех кодирования, задача предоставляет только поведенческий маркер внимания перед стимулом на нечастых целевых событиях, а не на каждом событии, таким образом, он может не улавливать предварительный стимул. колебания внимания на экспериментальной основе.
В дополнение к колебаниям в состоянии внимания до стимула, на успешное формирование памяти во время кодирования также может влиять смещение внимания от информации, относящейся к задаче, сразу после кодирования (то есть состояние внимания после стимула). Это может мешать продолжающемуся объединению недавно полученной информации, тем самым затрудняя вспоминание (Craig et al., 2014; Dewar et al., 2012). Например, Craig et al. (2014) представили участникам список слов, за которым последовал 9-минутный период отдыха, во время которого им было предложено подумать о личных автобиографических воспоминаниях.Их характеристики памяти для списка слов были значительно хуже по сравнению с тем, когда фаза кодирования сопровождалась коротким периодом спокойного бодрствования. Таким образом, разумно предсказать, что на процессы консолидации после кодирования могут повлиять спонтанные смещения внимания. Однако, насколько нам известно, ни в одном исследовании не использовалось явное онлайн-измерение для оценки влияния вариаций внимания на консолидацию после кодирования на пробной основе.
В текущем исследовании мы создали новую задачу, которую мы называем Монреальское внимание при кодировании задачи (MAET).Эта задача была основана на часто используемом задании на психомоторную бдительность (PVT: Dinges & Powell, 1985), которое оценивает бдительность / устойчивое внимание и широко использовалось в исследованиях депривации сна. В текущем исследовании мы адаптировали PVT, чтобы выяснить, влияют ли и как спонтанные флуктуации уровней внимания до и после стимула во время кодирования памяти на производительность памяти для элементов и их ассоциативный пространственный контекст на экспериментальной основе. Типичная задача PVT измеряет колебания внимания путем записи RT на зрительные или слуховые стимулы, которые часто возникают через случайные интервалы в течение определенного периода времени.Относительно более длительные RT для каждого испытания были предложены, чтобы отразить случаи, когда внимание участника могло упасть (Dorrian et al., 2004; Jung et al., 2011; Lim & Dinges, 2008). В текущей задаче MAET мы просим участников закодировать серию изображений объектов, представленных в левой или правой части экрана. Между предъявлением объектных стимулов в шахматном порядке находится крест фиксации, который увеличивается в размере после переменной продолжительности. Участникам предлагается как можно быстрее реагировать на изменение размера креста фиксации.Мы операционализируем состояние внимания перед стимулом как RT на крест фиксации, предшествующий объектному стимулу. Точно так же о состоянии постстимульного внимания можно судить по RT на крест фиксации, следующий за этим объектным стимулом. Мы используем RT, индексирующие состояние до и после внимания, чтобы прогнозировать последующую производительность памяти для объектов и их пространственного контекста. Мы прогнозируем, что относительно более длительные временные интервалы до стимула, индексирующие спонтанные провалы внимания, повлекут за собой большие затраты из-за сбоев памяти для памяти пространственного контекста по сравнению с памятью элементов.Если спонтанное смещение внимания действительно влияет на операции консолидации после кодирования, то мы прогнозируем, что относительно более длительные временные интервалы после стимула, индексирующие мгновенное снижение внимания, будут связаны с ухудшением производительности памяти, особенно для пространственных контекстных деталей, связанных с элементом.
2. Методы
2.1 Участники
Тридцать четыре здоровых молодых человека (21-34 года) успешно завершили это исследование. Статистический анализ мощности был проведен для оценки размера выборки на основе предыдущих исследований поведенческих эффектов внимания и производительности памяти при кодировании (Troyer & Craik, 2000) (N = 24).Размер эффекта (cohen’d valaue) составлял 1,49, что считалось очень большим согласно критериям Коэна (1988). При альфа = 0,05 и мощности = 0,08 прогнозируемый размер выборки, необходимый с этим размером эффекта, составляет приблизительно N = 12 для этого внутригруппового сравнения. Таким образом, размер нашей выборки в 34 будет более чем достаточен для основных целей этого исследования и должен обеспечить некоторый буфер для ожидаемого апостериорного исключения. Всего четыре участника были исключены из нашего анализа post-hoc. Три участника были исключены из-за отсутствия слишком большого количества ответов при кодировании, и один участник был исключен из-за необычно медленного среднего времени ответа (RT) при кодировании.Апостериорное исключение было основано на соблюдении правила выброса межквартильного диапазона 1,5 *. Окончательная выборка состояла из 30 участников (возраст от 21 до 34 лет, средний возраст = 25,76 года; 17 женщин; средняя продолжительность формального образования [EDU] = 15,80 лет). MAET был адаптирован для тестирования функционального магнитного резонанса (фМРТ) для изучения нейронных основ пре- и пост-стимульного внимания и эпизодической памяти с использованием этой новой парадигмы. Все подходящие участники прошли сканирование мозга с помощью фМРТ, одновременно выполняя этапы кодирования и извлечения задачи.Поведенческие результаты задачи будут обсуждаться в этой рукописи, а результаты нейровизуализации будут обсуждаться в будущих публикациях.
Исследование включало два сеанса, каждое проводилось в отдельный день. Сессия 1 состояла из медицинского опросника, набора нейропсихологических тестов и практического прогона MAET, выполненного на имитационном МРТ-сканере. Перечень депрессии Бека (BDI-II), пороговое значение исключения> 14, (Beck et al., 1996) и Калифорнийский тест на вербальное обучение (CVLT), отсроченное воспроизведение без задержки (DFR), пороговое значение исключения <11 (Mervielde et al., 1996). al., 1999) были использованы для оценки права на участие. Дополнительные критерии исключения, основанные на ответах на медицинские анкеты, включали: наличие в анамнезе психических заболеваний, злоупотребления психоактивными веществами и / или неврологического инсульта, приведшего к потере сознания более 1 минуты. Во время сеанса 1 участники также выполнили CVLT Delay Cued Recall (DCR) и CVLT Delay Recognition (DRG) для оценки долговременной вербальной памяти (Mervielde et al., 1999). Для оценки исполнительной функции используется тест Wisconsin Card Sorting Test: компьютерная версия 4 (WCST; Heaton & PAR Staff, 2003) и система исполнительных функций Делиса-Каплана (D-KEFS; Delis, Kaplan & Kramer, 2001) тест на беглость речи; Также применялись беглость письма (LF), свободное владение категориями (CF) и переключение категорий (CS).Чтобы оценить частоту ежедневных провалов внимания, применялись анкета когнитивных сбоев (CFQ; Broadbent et al., 1982) и шкала внимательности - только пропуски осознанности (MAAS-LO; Carriere et al., 2008).
Те, кто соответствовал медицинским критериям включения, пороговым значениям BDI-II и CVLT, а также продемонстрировали превосходные результаты при испытаниях имитатора МРТ, были приглашены для участия во втором сеансе тестирования фМРТ. Все участники были набраны через Интернет и печатные объявления из региона Большого Монреаля.Участники получали оплату и дали свое информированное согласие на участие в исследовании. Совет по этике Исследовательского центра Дугласа Le Centre intégré Universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal одобрил протокол исследования.
2.2 Задача «Монреальское внимание при кодировании»
Чтобы исследовать влияние внимания до и после стимула на производительность элементов памяти и пространственного контекста, мы создали задачу MAET (см. Рисунок 1). Участников просили закодировать изображения объектов и их местоположения в каждом испытании, а также ответить на крест фиксации, который увеличивался в размере после случайной продолжительности.Затем им был предложен поисковый прогон, состоящий из равного количества старых и новых объектов, перемешанных случайным образом, и была протестирована их память для ранее замеченных объектов. Всего участники выполнили 4 экспериментальных цикла кодирования и 4 цикла поиска. После каждого прогона кодирования следовал соответствующий прогон извлечения с краткой задачей отвлечения между фазами кодирования и извлечения (подробности обсуждаются ниже). Порядок представления пробега был уравновешен участниками.
Рисунок 1. Процедура задачи MAETMAET включала этапы кодирования и извлечения. При каждом испытании кодирования участникам предлагали крестик фиксации, который увеличивался в размере, и их просили как можно быстрее реагировать на изменение размера. Кодируемый объектный стимул следовал либо в левой, либо в правой части экрана, и участники должны были кодировать объект и его местоположение. Время отклика на фиксационный крест использовалось для определения уровней внимания на индивидуальной основе. При каждом испытании поиска показывался центрально представленный старый или новый объект, и участники должны были указать, был ли объект ранее представлен слева, справа, был ли это старый объект, но они не помнят его первоначальное местоположение, или новый объект.
Набор стимулов для задания был получен из свободно доступного банка стандартизованных стимулов (BOSS; Brodeur et al., 2014), который предлагает высококачественные стандартизированные изображения объектов и использовался в нескольких других исследованиях поведения и нейровизуализации. Каждый прогон кодирования состоял из объектов (всего 48), случайным образом представленных либо в левой (24 объекта), либо в правой (24 объекта) стороне экрана. Эти объекты были в равной степени выбраны из 12 различных категорий (т.е. продукты питания, музыкальные инструменты, транспортные средства, строительная инфраструктура, одежда, украшения и подарки, электроника, игры и развлечения, предметы домашнего обихода, кухонные принадлежности, уличное и спортивное оборудование, а также стационарные предметы).Точно так же каждый поисковый прогон состоял из сбалансированного распределения объектов, выбранных из одних и тех же 12 категорий (48 старых и 48 новых объектов). По завершении всех запусков задания участников просили заполнить компонент «Содержание мышления» опросника стрессового состояния Данди (DSSQ; Mervielde et al., 1999), чтобы оценить блуждание ума во время выполнения задания. Задача была запрограммирована и выполнялась с помощью программного обеспечения E-Prime (Psychology Software Tools, Inc .; Питтсбург, Пенсильвания, США). Участники, которым требовалась коррекция остроты зрения, носили корректирующие пластиковые линзы, и участникам были предоставлены две оптоволоконные коробки с 4 кнопками для ответа во время задания.Чтобы гарантировать, что реакция на перекрестную фиксацию действительно является допустимым показателем внимания, мы вычислили частоту ошибок для каждого участника (т. Е. Испытания, в которых участники не ответили на перекрестную фиксацию, разделенные на общее количество завершенных испытаний кодирования) и коррелировали ошибку оцените точность выполнения задания и используйте анкеты по отвлечению внимания (CFQ, DSSQ и MASS-LO).
2.2.1 Фаза кодирования
Каждое испытание кодирования начиналось с небольшого перекрестия фиксации, которое отображалось в центре экрана и увеличивалось в размере после случайной продолжительности (2, 4 или 6 секунд).Большой крест фиксации продержался на экране в течение 200 мсек, затем сжался до своего первоначального размера и продержался еще 2 секунды до начала нового испытания. Участников просили нажимать кнопку как можно быстрее, когда они обнаруживают изменение в размере креста фиксации. Затем в течение 2 секунд случайным образом появлялся объект в левой или правой части экрана. Участникам необходимо было запомнить объект и его местонахождение. Следовательно, инструкции заключались в том, чтобы запоминать объекты и их местоположение, а также реагировать на изменение размера фиксации креста.Эти два набора инструкций были подчеркнуты одинаково перед началом каждого прогона. Первоначальный кросс фиксации малых переменных служил для внесения дрожания в получение фМРТ и для предотвращения эффектов ожидания стимула, подобных PVT (Dinges & Powell, 1985). Вариабельность RT к изменению поперечного размера фиксации использовалась для измерения уровней внимания. Фаза кодирования состояла из 4 прогонов (48 стимулов / прогон), всего 192 стимула во всех прогонах. После каждого прогона кодирования участники выполняли короткое задание на отвлечение (60 секунд), чтобы свести к минимуму повторение закодированной информации перед началом выполнения извлечения.Во время фазы отвлечения участникам одновременно показывали два слова и просили выбрать слово, которое стоит первым в алфавите.
2.2.1 Фаза извлечения
В каждом испытании извлечения участникам показывали либо старый (ранее представленный во время кодирования), либо новый объект, представленный централизованно в течение 3 секунд. Для каждого объекта их попросили указать, был ли объект: i) ранее представлен слева; ii) ранее представленный справа; iii) старый объект, но не уверен в его первоначальном местонахождении; iv) новый объект.Испытания были разделены переменной фиксацией ITI (2, 4 или 6 секунд). Этот дизайн позволил провести различие между поиском ассоциативного контекста и извлечением элемента из памяти без его пространственного контекста. Каждый прогон поиска состоял из 96 объектов (48 старых и 48 новых), всего 384 объекта во всех 4 прогонах поиска.
2.3 Анализ поведенческих данных
Мы рассчитали среднюю точность для всех возможных типов ответов:
1. Попадания в ассоциативный контекст: правильное напоминание объекта и его пространственного положения.
2. Память предметов: распознавание старых объектов, но не предоставление ассоциативного пространственного положения.
3. Неверная атрибуция контекста: распознавание старых объектов, но предоставление неверного ассоциативного пространственного положения (например, утверждение, что объект, который ранее был виден слева, изначально был представлен справа).
4. Отсутствует: неправильное определение старых объектов как новых.
5. Правильная браковка: правильное определение новых объектов.
6. Ложная тревога: неправильное определение новых объектов как старых.
Процент ассоциативных совпадений контекста, памяти элементов и неверной атрибуции контекста был рассчитан как количество ответов в каждой соответствующей категории, деленное на общее количество старых совпадений, выполненных на одного участника. Процент правильного отклонения и ложных тревог был рассчитан как количество испытаний в каждой из двух категорий, разделенное на общее количество новых испытаний, выполненных на одного участника. Испытания, в которых участники не ответили при извлечении (3,31% от общего числа завершенных исследований), были исключены из анализа.Мы рассчитали общую точность (то есть совпадения) как сумму ассоциативных совпадений контекста, памяти элементов и неверной атрибуции контекста, деленную на общее количество старых испытаний, выполненных на одного участника. Мы также вычислили пропорцию совпадений ассоциативного контекста (правильные попытки ассоциативного контекста / общее количество совпадений) и пропорцию памяти элемента (попытки памяти элемента / общее количество совпадений). D ’использовали как меру чувствительности и рассчитывали как общую стандартизованную частоту совпадений минус стандартизованную частоту ложных тревог.
Чтобы гарантировать, что участники набрали больше шансов, мы провели t-тесты с одной выборкой для совпадений, ассоциативных совпадений и правильного отклонения.Помимо использования d ‘в качестве меры различимости ответа, мы рассчитали уровень шанса на основе вероятности ответа (т. Е. Вероятности выбора правильного ответа случайно) и вероятности предъявления стимула (т. Е. Вероятности случайного появления типа стимула). (Snytte et al., 2020). Например, вероятность ответа для нажатий = 75% (три из 4 ответов кнопки приведут к общему нажатию, т. Е. Старый-левый, старый-правый, старый без связанного пространственного положения). С другой стороны, вероятность предъявления стимула для совпадений будет равна 50% (половина стимулов, предъявленных при поиске, были старыми).Следовательно, если сложить ответ и вероятность стимула для совпадений, уровень вероятности будет равен 37,5%. Уровень вероятности правильной идентификации старого предмета, ранее показанного слева или справа, составил 6,25%. Чтобы вычислить общий уровень вероятности для совпадений ассоциативного контекста, мы вычислили сумму обеих вероятностей (6,25% + 6,25%), что дало 12,5%. Как и в случае совпадений с ассоциативным контекстом, уровень вероятности правильного отклонения был рассчитан как 12,5%.
2.3.1 Логистический регрессионный анализ
Мы использовали логистический регрессионный анализ, чтобы проверить, влияют ли уровни внимания до и после стимула по-разному на ассоциативный контекст по сравнению с точностью запоминания элемента внутри субъекта.Уровни внимания до стимула для каждого испытания индексировались с помощью RT на крест фиксации, предшествующий каждому объектному стимулу, который должен быть кодирован, в то время как уровни внимания после стимула индексировались с помощью RT на крест фиксации, следующий за каждым объектом. Для последующего анализа памяти испытания правильного ассоциативного контекста оценивались как 1, а запоминание элементов — как 0. Следовательно, каждое испытание кодирования было связано с его соответствующим RT перед стимулом, RT после стимула и последующей оценкой памяти (т. Е. 1 для правильный ассоциативный контекст и 0 для памяти элемента).Испытания с отсутствующими ответами при кодировании или извлечении, испытания с неверной атрибуцией контекста и испытания с пропущенными испытаниями были исключены из анализа. Для каждого испытуемого был проведен логистический регрессионный анализ, чтобы предсказать двоичную переменную памяти (т.е. 1, 0) на основе индекса RT уровня внимания до стимула во время кодирования. Другой логистический регрессионный анализ был проведен для прогнозирования той же двоичной переменной памяти из индекса RT уровня внимания после стимула во время кодирования для каждого субъекта. Наконец, мы сравнили полученные бета-значения для всех участников с помощью одного образца t-теста, чтобы определить их общее направление на уровне группы.
Мы также были заинтересованы в том, чтобы проверить, влияют ли колебания уровней внимания до и после стимула при кодировании на ассоциативное контекстное воспоминание в более широком смысле. С этой целью мы запустили третью модель логистической регрессии внутри участника, проверяющую, будут ли уровни внимания до стимула, индексированные RT фиксации до стимула, предсказывать совпадения ассоциативного контекста, по сравнению с ошибками ассоциативного контекста (т. и пропустить события). Затем полученные бета-значения для всех участников сравнивались с помощью одного выборочного t-критерия, чтобы определить их общее направление на уровне группы.Наконец, мы запустили четвертую и последнюю модель логистической регрессии для прогнозирования совпадений ассоциативного контекста в сравнении с ошибками ассоциативного контекста (т. Затем полученные значения бета сравнивались с помощью одного образца t-теста, чтобы определить их общее направление на уровне группы.
3. Результаты
3.1 Результаты по точности и времени реакции
В таблице 1. обобщены демографические и нейропсихологические данные тестов, а на рисунке 2а показан график результатов точности теста MAET для скрипки.Участники набрали гораздо больше шансов на совпадения ассоциативного контекста (M = 0,56, SD = 0,20, t (29) = 12,17, p <0,001, совпадения (M = 0,78, SD = 0,14, t (29) = 15,77, p <0,001) и правильное отклонение (M = 0,85, SD = 0,20, t (29) = 34,57, p <0,001). Средние и стандартные значения результатов точности представлены в таблице 2.
Таблица 1Демографические и нейропсихологические данные тестов
Таблица 2. Результаты точности задачиMAET
Рисунок 2. Графики точности и времени отклика для задачи MAETa) График скрипки, показывающий средние результаты точности и стандартные отклонения для каждой категории событий в задаче MAET.Участники набрали гораздо больше шансов на совпадения, совпадения ассоциативного контекста и правильное отклонение. Процент совпадений ассоциативной контекстной памяти был значительно больше, чем у элемента памяти. б) Гистограмма, показывающая среднее время отклика и стандартные отклонения на крестик фиксации переменной, представленный до стимулов, которые впоследствии оценивались как совпадение ассоциативного контекста, память элемента, неверная атрибуция контекста, промах и сбой памяти ассоциативного контекста (т. е. схлопывающаяся память элемента, контекст неправильная атрибуция и пропуск событий).Среднее время отклика для разных категорий стимулов существенно не отличалось друг от друга. c) Гистограмма, показывающая среднее время отклика и стандартные отклонения на крестик фиксации переменной, представленный после стимулов, которые впоследствии были оценены как совпадение ассоциативного контекста, память элемента, неправильная атрибуция контекста, промах и отказ ассоциативной контекстной памяти (т. , и пропустить события). Среднее время отклика для разных категорий стимулов существенно не отличалось друг от друга.
Среднее время задержки фиксации, разнесенное между объектными стимулами при кодировании, составило 373,68 мс (SD = 57,51). На рисунке 2b показана гистограмма среднего значения RT до стимула для объектов, которые впоследствии были оценены как ассоциативное контекстное попадание, память элемента, неправильная атрибуция контекста, промах и ассоциативный сбой контекста (то есть сворачивание памяти элемента, неправильная атрибуция контекста и пропуск событий). На рис. 2с показана столбиковая диаграмма среднего RT после стимула для объектов, которые впоследствии были оценены как совпадение ассоциативного контекста, память элемента, неправильное атрибутирование контекста, промах и ассоциативный отказ контекста.Апостериорные тесты показали, что средние значения RT до стимула, связанные с различными категориями стимулов, существенно не отличались друг от друга. Точно так же средние значения RT после стимула, связанные с различными категориями стимулов, существенно не отличались друг от друга. Не было никаких половых различий между участниками в показателях памяти MAET или средней RT перекрестной фиксации при кодировании (ps> 0,05). В целом участники выполнили задание хорошо, на что указывает относительно низкий уровень ошибок (M = 2.34%, SD = 2,80) и высокое значение d ’(M = 2,08, SD = 0,97), что отражает высокую чувствительность задачи. Частота ошибок не была связана с точностью задачи, однако она положительно коррелировала с подшкалой отвлекаемости на CFQ (p = 0,038) и показывала незначительно значимую положительную корреляцию с несвязанными с задачей помехами — DSSQ (p = 0,078).
3.2 Результаты регрессионного анализа
Сначала мы оценили взаимосвязь между ассоциативным контекстом и точностью памяти элемента при извлечении, а также нашим индексом RT состояния внимания перед стимулом при кодировании.Мы использовали логистическую регрессию для оценки этой взаимосвязи внутри участника, а затем сравнили полученные значения бета, чтобы определить их общее направление на уровне группы. Тест Шапиро-Уилкса показал, что данные не нарушают предположения о нормальности (p = 0,92), а один выборочный t-тест, выполненный на уровне группы, показал, что общее направление бета-версии не отличалось от нуля (p = 0,72). ). Таким образом, этот регрессионный анализ не подтвердил нашу гипотезу о том, что колебания уровня внимания перед стимулом при кодировании предсказывают ассоциативный контекст и память элемента при извлечении.Мы провели еще одну модель логистической регрессии, проверяя, будут ли колебания уровней внимания до стимула при кодировании в более широком смысле предсказывать ассоциативную контекстную память (то есть успешность ассоциативного контекста или неудача ассоциативного контекста). Тест Шапиро-Уилкса показал, что данные не нарушают предположения о нормальности (p = 0,84), а один выборочный t-тест, выполненный на уровне группы, показал, что общее направление бета-версии не отличалось от нуля (p = 0,09). ). Эти результаты предполагают, что колебания уровней внимания перед стимулом, индексируемые RT для фиксации, представленной до кодирования объектных стимулов, не влияли на ассоциативный контекст по сравнению спроизводительность памяти элементов, и они не предсказывали совпадения ассоциативного контекста в сравнении с ошибками ассоциативного контекста в более широком смысле.
Подобно анализу, описанному выше, мы провели внутриучастную логистическую регрессию, чтобы оценить, предсказывают ли RT после стимула ассоциативные совпадения контекста по сравнению с памятью элемента, а затем сравнили полученные бета-значения, чтобы определить их общее направление на уровне группы. Тест Шапиро-Уилкса показал, что данные не нарушают предположения о нормальности (p = 0,07), а один выборочный t-тест, выполненный на уровне группы, показал, что общее направление бета-версии не отличалось от нуля (p =.18). Следовательно, RT после стимула не смогли предсказать совпадения ассоциативного контекста по сравнению с памятью элемента. Наш заключительный внутриучастный логистический регрессионный анализ проверял, будут ли RT после стимула предсказывать совпадения ассоциативного контекста или неудачи ассоциативного контекста в более широком смысле. Наши результаты показали, что большинство участников (20/30) показали отрицательные значения бета, отражая, что более быстрые RT после стимула при кодировании предсказанных совпадений ассоциативного контекста, а более медленные RT после стимула предсказывали сбой ассоциативного контекста.Чтобы проверить, сохраняется ли эта взаимосвязь на уровне группы, мы провели одинарный t-тест, чтобы определить общее направление бета-значений, убедившись, что данные не нарушают допущения о нормальности (критерий Шапиро-Уилкса: p = 0,43 ). Логистические функции для всех участников показаны на рисунке 3, демонстрируя в среднем достоверно отрицательный наклон (p = 0,01), что указывает на то, что более быстрое RT для фиксации креста, которое последовало за объектными стимулами, положительно коррелировало с успехом ассоциативной контекстной памяти, а более медленное постстимульные RT предсказывали отказ ассоциативного контекста при поиске.Мы также сравнили две группы участников, показывающих положительный (n = 10) и отрицательный (n = 20) наклон производительности памяти MAET. Результаты показали, что участники с отрицательными наклонами имели более высокий процент попаданий (t (28) = -2,59, p = 0,02) и точность ассоциативной контекстной памяти (t (28) = -2,20, p = 0,03) по сравнению с участниками с положительные наклоны.
Рис. 3. Логистические функции всех участников, прогнозирующих успех ассоциативного контекста против неудачного ассоциативного контекста из RT после стимулаЛогистическая функция для каждого участника нанесена на тот же график, чтобы визуализировать взаимосвязь между временем отклика кодирования после стимула и ассоциативным успех контекста vs.отказ ассоциативного контекста. Красные линии показывают логистические функции с положительным наклоном, а синие линии — логистические функции с отрицательным наклоном. Как показано на графике, большинство участников (20/30) имели отрицательные наклоны, что указывает на достоверно отрицательный наклон в среднем (p = 0,025). То есть более быстрое время реакции после стимула при кодировании предсказывало успех ассоциативной контекстной памяти, а более медленное время реакции после стимула предсказывало отказ ассоциативной контекстной памяти.
4.Обсуждение
В текущем исследовании мы разработали новую задачу (MAET), чтобы изучить, как моментальные колебания состояния внимания до и после стимула при кодировании памяти могут повлиять на производительность памяти для элементов и их контекстных деталей. Уровень внимания перед стимулом при кодировании измерялся с помощью RT по перекрестной фиксации, представленной перед тем, как объектный стимул кодировался на пробной основе. И наоборот, уровень внимания после стимула для каждого испытания индексировался с помощью RT на перекрестие фиксации после каждого стимула объекта при кодировании.Наши результаты показали, что состояние внимания перед стимулом при кодировании, как указано RT, не предсказывало ассоциативную контекстную память по сравнению с памятью элемента, а также не предсказывало успех контекстной памяти в более широком смысле. С другой стороны, успех кодирования контекстной памяти был связан с RT после стимула. Мы обсудим эти результаты и их последствия более подробно ниже.
В отличие от двухзадачных парадигм разделенного внимания, которые требуют от участников одновременного и одновременного кодирования элементов в памяти при выполнении второстепенной задачи, MAET, использованный в текущем исследовании, требовал, чтобы участники последовательно реагировали на перекрестную фиксацию переменных и кодировали объекты в объем памяти.Следовательно, эту задачу можно рассматривать как парадигму переключения задач, при которой два набора стимулов предъявляются последовательно без временного перекрытия (Kiesel et al., 2010; Monsell, 2003). Недавно мы использовали ту же задачу в нашей лаборатории в другом исследовании без компонента переключения задач (т.е. участникам нужно было только запоминать стимулы без необходимости реагировать на переменную фиксацию) в выборке здоровых молодых людей (Snytte et al. , 2020), а производительность памяти была сопоставима с результатами текущего исследования.Следовательно, несмотря на характер переключения задач в текущей парадигме, затраты на переключение задач были минимальными и, вероятно, не повлияли на производительность памяти. Более того, в отличие от SART, задача MAET — это не просто задача бдительности / постоянного внимания. Переключение между кодирующим стимулом и ответом на крест фиксации, вероятно, нарушает бдение. Однако частота ошибок в текущей задаче предсказывала потери внимания, измеренные с помощью шкалы CFQ (Broadbent et al., 1982), и показывала маргинальную положительную связь с несвязанным с задачей вмешательством или блужданием ума (Mervielde et al., 1999). Следовательно, наша задача чувствительна к переживанию ежедневных провалов внимания, а также может быть чувствительной к блужданию ума, подобно SART (Robertson et al., 1997; Smallwood et al., 2004).
Предыдущие исследования показали, что кодирование состояния внимания перед эпизодическими событиями влияет на последующую память об этих событиях (deBettencourt et al., 2018; Markant et al., 2014). Более того, исследования с использованием парадигм разделенного внимания продемонстрировали, что, когда внимание разделено во время кодирования, память для контекстных деталей по-разному ухудшается по сравнению с памятью элементов, предположительно из-за более высоких требований к вниманию, необходимых для кодирования контекстной памяти (Troyer et al., 1999; Тройер и Крейк, 2000). Таким образом, мы предсказали, что спонтанные колебания уровней внимания до стимула при кодировании будут по-разному влиять на производительность контекстной памяти по сравнению с памятью элементов. Удивительно, но результаты нашего логистического регрессионного анализа не подтвердили нашу гипотезу. Во вторичном логистическом регрессионном анализе мы дополнительно проверили, могут ли колебания состояния внимания перед стимулом предсказать успех или неудачу ассоциативного контекста в более широком смысле, однако этот анализ также не выявил значительных эффектов.Взятые вместе, колебания в состоянии внимания перед стимулом, индексируемые RT для перекрестия фиксации, представленного до стимула объекта, который должен быть закодирован в задаче MAET, не повлияли на успех кодирования контекстной памяти. Отсутствие связи между RT перед стимулом и ассоциативным контекстом и памятью о предметах действительно может отражать нечувствительность кодирования контекстной памяти к колебаниям в состоянии внимания перед стимулом. Тем не менее, другое возможное объяснение указывает на низкую статистическую мощность этого конкретного анализа.Наша выборка состояла из здоровых молодых людей, которые в целом хорошо выполнили задание, получили результаты значительно выше случайного уровня и выбрали правильный ассоциативный контекст более чем в половине испытаний. Тем не менее, благодаря нашему дизайну задачи, более правильные испытания ассоциативного контекста приведут к меньшему количеству попыток запоминания элементов, что приведет к несбалансированному количеству событий между двумя категориями стимулов. Действительно, было значительно больше правильных ассоциативных контекстных испытаний по сравнению с тестами на запоминание заданий, что, возможно, снизило эффективность нашего логистического регрессионного анализа.Также возможно, что участники знали о своей работе над задачей, так что относительно более длительные RT перед стимулом могли сигнализировать о том, что их внимание отвлекается от задачи. Следовательно, это могло вызвать переориентацию ресурсов внимания на релевантную для задачи информацию, компенсируя эффекты мгновенных провалов внимания перед стимулом, тем самым не снижая производительности кодирования контекстной памяти. Хотя наши результаты могут показаться предполагающими, что уровни внимания до стимула не влияют на производительность кодирования контекстной памяти, если принимать их за чистую монету, эти результаты следует воспринимать с некоторой долей скептицизма, учитывая наш новый дизайн задачи и ограничения задачи, описанные выше.
Учитывая универсальность дизайна нашей задачи MAET, мы также исследовали, будут ли RT, представленные сразу после события кодирования объекта, предсказывать ассоциативный контекст по сравнению с памятью элемента или совпадения ассоциативного контекста по сравнению с ошибкой ассоциативного контекста в целом. Перекрестная фиксация переменных, колеблющаяся между объектными стимулами при кодировании, длилась в среднем 4 секунды, прежде чем увеличилась в размерах, и был получен поведенческий ответ. Следовательно, RT к кресту фиксации, предъявленному после предметного стимула, потенциально отражает состояние внимания участника во время этого представления объекта или через несколько мгновений после (т.е. постстимульное внимание), приводящее к последующей поведенческой реакции. Наши результаты показали, что постстимулирующее внимание не предсказывало контекст против памяти элемента, но фактически предсказывало успех кодирования ассоциативной контекстной памяти в более общем плане. То есть относительно более длительные RT после стимула, предположительно сигнализирующие о кратковременных перерывах во внимании либо во время самого события кодирования, либо в моменты после предсказанного сбоя контекстной памяти, и относительно более короткие постстимульные временные интервалы, предсказанные срабатыванием контекстной памяти.
В целом, наши результаты показывают, что существуют состояния внимания, при которых люди оптимально настроены на успешное кодирование контекстной памяти, и другие состояния, при которых контекстные детали могут быть упущены. Возможный посредник этих эффектов — блуждание ума или переключение внимания с процессов, связанных с задачей, на процессы, возникающие самостоятельно, не связанные с задачей (Smallwood & Schooler, 2006). В текущем исследовании блуждание мыслей было лишь незначительно связано с частотой ошибок (p =.078) по задаче и не был напрямую связан с производительностью памяти. Тем не менее, блуждание ума в текущем исследовании оценивалось с помощью анкеты самоотчета, представленной в конце исследования, и, следовательно, могло не улавливать покемные колебания внимания, которые происходили во время задания кодирования. Кроме того, доказательства связи блуждания ума с выполнением задач противоречивы в литературе (McVay & Kane, 2012; Seli et al., 2015). Мысли, не связанные с заданием (т. Е. Блуждание ума), также можно оценить с помощью анализов мышления, представленных на пробной основе (Seli, Risko, & Smilek, 2016; Seli et al., 2018), однако мы отказались от этого метода, поскольку он добавит еще один уровень переключения задач в нашу парадигму и, вероятно, еще больше нарушит бдительность, затрудняя вывод о том, требует ли блуждание ума или переключение задач опосредованное выполнение задачи. Согласно теории блуждания ума, мысли, не связанные с задачей, возникают из-за недостаточной нагрузки или недостаточного возбуждения, связанного с задачей (Robertson et al., 1997; Seli, Risko, Smilek, et al., 2016; Thomson et al., 2014). Учитывая высокий уровень производительности памяти при выполнении текущей задачи и ее низкий уровень сложности, мы предполагаем, что наша задача позволила большинству участников отвлечь внимание от кодирования контекстной памяти на мысли, не связанные с задачей (т.е., блуждание ума) после просмотра каждого объекта, что объясняет положительную взаимосвязь между более медленными RT после стимула при кодировании и отказом контекстной памяти. Наши результаты не говорят напрямую о точных механизмах посткодирования, которые нарушаются из-за блуждания ума, вызванного кратковременными провалами постстимульного внимания, однако мы предполагаем, что нарушение, вероятно, происходит во время автоматической консолидации недавно приобретенных следов памяти. который преобразует эти воспоминания в долговременное хранилище (Squire et al., 2015). Нарушение процессов консолидации памяти может объяснить связь между мгновенными колебаниями внимания, блужданием ума и эпизодической производительностью памяти в задаче MAET, и согласуется с предыдущими отчетами, описывающими некоторые из факторов, которые препятствуют консолидации недавно полученной информации (Craig et al. al., 2014; Dewar et al., 2012; Mednick et al., 2011). Хотя эта гипотеза в высшей степени спекулятивна, будущие исследования с использованием MAET могут помочь очертить точные механизмы посткодирования, которые нарушаются во время кратковременных приливов внимания при кодировании.
Хотя большинство участников текущего исследования продемонстрировали положительную взаимосвязь между более медленными постстимулирующими RT при кодировании и отказом контекстной памяти. Некоторые участники продемонстрировали противоположную картину результатов (то есть более медленные RT после стимула, связанные с успехом контекстной памяти). Хотя эти результаты трудно объяснить, эти участники потенциально могут демонстрировать компромисс между скоростью и точностью. То есть, вместо того, чтобы придавать равный вес реакции на крест фиксации и кодированию данного стимула, они могли бы направить больше когнитивных ресурсов на задачу кодирования, репетируя стимулы объекта во время представления креста фиксации, тем самым относительно медленно реагируя на фиксация раздражителей.Однако такая интерпретация маловероятна, поскольку участники, показавшие положительную взаимосвязь между более быстрым постстимульным RT и успехом ассоциативной контекстной памяти, показали более точную производительность ассоциативной контекстной памяти по сравнению с теми, кто продемонстрировал противоположный паттерн. Чтобы прояснить эти результаты, необходимы дальнейшие эксперименты.
Таким образом, наше исследование представляет новую парадигму для изучения влияния приливов и отливов состояния внимания на производительность памяти и демонстрирует, что успех контекстной памяти связан с эффективным состоянием внимания после стимула.Выделение конкретных когнитивных операций после стимула, которые успешно способствуют кодированию контекстной памяти, заслуживает изучения в будущих исследованиях, чтобы расширить литературу о взаимодействии между системами внимания и памяти. Более того, понимание факторов, связанных с индивидуальными различиями во взаимосвязи между мгновенными колебаниями внимания и производительности памяти, пролило бы свет на предрасположенность людей к сбоям памяти и может предложить уникальное окно для исследования оптимальных условий для обучения и памяти.Наконец, в попытках определить нейронные механизмы, которые подчеркивают взаимосвязь между состоянием внимания при кодировании и успехом контекстной памяти, мы разработали и протестировали текущую задачу, чтобы сделать ее пригодной для фМРТ. Мы стремимся рассмотреть эти результаты нейровизуализации в будущих публикациях.
Блуждание разума и внимание, сфокусированное на задаче: ERP коррелирует
Взаимосвязь между сфокусированным вниманием и блужданием разума — поведенческие результаты
Для анализа поведенческих результатов были выполнены два дисперсионного анализа с повторными измерениями (ANOVA) с временем реакции ANT ( RT) или показатель точности как зависимые переменные и тип реплики (двойная реплика, центральная реплика, отсутствие реплики и пространственная реплика), тип цели (конгруэнтный, нейтральный, неконгруэнтный) в качестве факторов внутри субъекта и блуждание разума (MW, FA) как межсубъектный фактор.Для RT были значительные основные эффекты для цели [ F (1,31) = 503,31, p <0,001, ηp 2 = 0,94] и условий сигнала [ F (3,93) = 128,49, p <0,001, ηp 2 = 0,81], а также взаимодействие cue * target [ F (3,93) = 10,23, p <0,001, ηp 2 = 0,25 ]. Не было обнаружено значительных эффектов для блуждания ума [ F (1,31) = 1,34, p <0.26, ηp 2 = 0,04] и для взаимодействий между репликой * блужданием разума [ F (3,93) = 0,37, p <0,77, ηp 2 = 0,01], цель * блуждание разума [ F (1,31) = 0,16, p <0,69, ηp 2 = 0,01] и подсказка * цель * блуждание разума [ F (3,93) = 1,43 , p <0,24, ηp 2 = 0,04]. Апостериорные тесты Бонферрони показали значимые различия между всеми условиями ( p <0.001) за исключением следующих условий ( p > 0,05): дважды конгруэнтно и центрально-конгруэнтно; нет реплики-конгруэнтной и пространственно-неконгруэнтной; и между неконгруэнтным сигналом и неконгруэнтным центром (см. рис. 3).
Рисунок 3ANT Время реакции ( a ) и точность ( b ) в группах FA и MW для различных сигналов и целевых условий (среднее ± стандартное отклонение).
С точки зрения точности, значительные основные эффекты были обнаружены для цели [ F (1,31) = 39.47, p <0,001, ηp 2 = 0,56] и условия сигнала [ F (3,93) = 3,06, p = 0,03, ηp 2 = 0,09], но не для взаимодействия cue * target [ F (3,93) = 1,98, p = 0,12, ηp 2 = 0,06]. Опять же, не было обнаружено никаких значительных эффектов для блуждания ума [ F (1,31) = 1,81, p = 0,19, ηp 2 = 0,06] или для взаимодействий между сигналом * блужданием ума [ F (3,93) = 0.55, p = 0,64, ηp 2 = 0,02], цель * блуждание разума [ F (1,31) = 2,67, p = 0,11, ηp 2 = 0,08] и подсказка * цель * блуждание разума [ F (3,93) = 0,18, p = 0,91, ηp 2 = 0,01]. Апостериорные тесты Бонферрони показали, что единственная значимая разница была между условиями центра и отсутствия сигнала ( p = 0,05).
Взаимосвязь между сфокусированным вниманием и блужданием ума — результаты ERP
Для каждого компонента использовались смешанные ANOVA с адаптивной средней амплитудой (мкВ) на выбранных электродах в качестве зависимой переменной, тип сигнала как фактор внутри субъекта (двойной сигнал, центральная метка, пространственная метка — для компонентов с заблокированной меткой; двойная метка, центральная метка, пространственная метка, без метки — для целевых заблокированных компонентов) и блуждание разума (MW, FA) как фактор между субъектами.Для N1 и P3 область скальпа (затылочная, теменная) также анализировалась как внутрифакторная переменная. В конкретном случае P3 тип сигнала был заменен целевым типом в качестве внутрифакторной переменной. Парные сравнения с t-критериями Стьюдента использовались для проверки направления значимых основных или взаимодействующих эффектов. Для всех статистических тестов был принят альфа-уровень 5%. На рисунках 4, 5, 6, 7 и 8 представлены общие усредненные формы сигналов ERP и топографические карты для всех заблокированных сигналов (рисунки 4 и 5) и компонентов захвата цели (рисунки 6, 7 и 8).
Рис. 4Общие средние значения для компонентов ERP с блокировкой cue.
Рис. 5Топографические карты для компонентов ERP с блокировкой cue.
Рис. 6Общие средние для целевых заблокированных компонентов ERP — эффекты оповещения.
Рис. 7Общие средние для целевых заблокированных компонентов ERP — ориентирующие эффекты.
Рис. 8Топографические карты для целевых заблокированных компонентов ERP.
P1 Компонент
Что касается P1 с блокировкой метки, не было обнаружено значительных эффектов ни для одного блуждания ума [ F (1,31) = 2.94, p = 0,10, ηp 2 = 0,09] ни для реплики взаимодействия * блуждания ума [ F (2,62) = 0,14, p = 0,87, ηp 2 = 0,005]. Однако значительный основной эффект был обнаружен для условия сигнала [ F (2,62) = 14,95, p = 0,001, ηp 2 = 0,33]. Парные сравнения между двойными, центральными и пространственными сигналами показали значительные различия между центральными и пространственными сигналами [ t (32) = -4,26, p <0.001], а также между центральным и двойным кием [ t (32) = 2,69, p = 0,01], но не между двойным и пространственным кием [ t (32) = -1,92, p = 0,07]. Как показано на рис. 4, как двойные, так и пространственные реплики привели к большим амплитудам P1 по сравнению с центральной репликой.
Для P1 с фиксированной целью снова не было значительных эффектов ни для блуждания разума [ F (1,31) = 2,21, p = 0,15, ηp 2 = 0,07], ни для сигнала взаимодействия. * блуждающий разум [ F (3,93) = 0.14, p = 0,94, ηp 2 = 0,01]; однако наблюдался значительный основной эффект для состояния реплики [ F (3,93) = 5,88, p = 0,001, ηp 2 = 0,16]. Как показано на рис. 6, парные сравнения выявили значительный предупреждающий эффект [отсутствие подсказки против двойной подсказки; t (32) = 4,04, p <0,001] с увеличенной амплитудой P1 для условия отсутствия сигнала. Не было обнаружено значительных ориентировочных эффектов для фиксированной цели P1 [центр против пространственной реплики; т (32) = −0.82, p = 0,42] (см. Рис. 7).
Компонент pN1
Анализ компонента pN1 с блокировкой метки не показал значительных эффектов для блуждания разума [ F (1,31) = 0,7, p = 0,41, ηp 2 = 0,02] или метка * блуждающее сознание [ F (3,93) = 1,7, p = 0,17, ηp 2 = 0,05]. Был значительный основной эффект для условия реплики [ F (2,62) = 12,92, p = <0,001, ηp 2 = 0.29]. Парные сравнения показали значительные различия между центрально-пространственными сигналами [ t (32) = 4,5, p <0,001] и центрально-пространственными сигналами [ t (32) = 3,57, p = 0,001]. И двойные, и пространственные реплики привели к большим амплитудам pN1 по сравнению с центральным кием.
Аналогичный результат был получен для компонента pN1 с фиксированной целью, со значительным основным эффектом для cue [ F (3,93) = 3,06, p = 0,03, ηp 2 = 0.09], но не влияет на блуждание ума [ F (1,31) = 1,77, p = 0,19, ηp 2 = 0,05] или сигнал * блуждание разума взаимодействие [ F (3,93) = 0,87, p = 0,46, ηp 2 = 0,03]. Парные сравнения показали значимые различия между отсутствием сигнала — двойной сигнал [ t (32) = 2,44, p = 0,02] и отсутствием сигнала — пространственным сигналом [ t (32) = -2,28, p = 0,03] . Как показано на рис. 6, условие отсутствия метки привело к большему pN1 по сравнению с двойными и пространственными сигналами.
N1 Компонент
Для N1 с блокировкой сигнала были обнаружены значительные эффекты для сигнала [ F (2,62) = 32,34, p <0,001, ηp 2 = 0,51], кожи головы [ F (1,31) = 28,67, p <0,001, ηp 2 = 0,48] и взаимодействие cue * области скальпа [ F (2,62) = 8,1, p = 0,001, ηp 2 = 0,51], но без значительных эффектов для блуждания ума [ F (1,31) = 0,51, p = 0,48, ηp 2 = 0.02], сигнал * блуждание разума [ F (2,62) = 0,10, p = 0,90, ηp 2 = 0,003], область скальпа * блуждание разума [ F (1,31) = 0,01, p = 0,97, ηp 2 <0,001] ни для подсказки * области скальпа * блуждания разума [ F (2,62) = 0,62, p = 0,54, ηp 2 = 0,02] . Парные сравнения подтвердили значительно большую амплитуду N1 для двойной реплики по сравнению с центральными и пространственными репликами в теменной [двойной против центра, t (32) = 5.51, р <0,001; двойное против пространственного, t (32) = -8,9, p <0,001] и затылочные области [двойное против центра, t (32) = 5,84, p <0,001; двойное против пространственного, т (32) = -9,9, p <0,001].
Анализ N1 с захватом цели снова выявил значительные основные эффекты для состояния реплики [ F (3,93) = 29,87, p <0,001, ηp 2 = 0,49] и скальпа [ F ( 1,31) = 8,89, p = 0,006, ηp 2 = 0.22], а также взаимодействие между кий * скальп [ F (3,93) = 8,69, p <0,001, ηp 2 = 0,22]. Не было обнаружено значительных основных эффектов для блуждания ума [ F (1,31) = 0,147, p = 0,704, ηp 2 = 0,005] и взаимодействий блуждания разума * cue [ F (3, 93) = 2,15, p = 0,99, ηp 2 = 0,03], блуждающий разум * область кожи головы [ F (1,31) = 0,002, p = 0,96, ηp 2 <0,001] , блуждающий разум * сигнал * область кожи головы [ F (3,93) = 0.48, p = 0,70, ηp 2 = 0,2]. В таблице 1 показаны результаты парных сравнений в отношении ориентации (отсутствие метки против двойных целей) и предупреждающих эффектов (центральная цель против пространственных целей) для теменной и затылочной областей. Адаптивные средние амплитуды N1 были больше для пространственных и двойных сигналов по сравнению с центром (ориентирующий эффект) и отсутствием сигнала (предупреждающий эффект).
Таблица 1 Предупреждающие и ориентирующие эффекты N1 для каждой области кожи головы (значения указаны как среднее ± стандартное отклонение).pP1 Компонент
Для pP1 с блокировкой метки значительные основные эффекты были обнаружены для условия cue [ F (2,62) = 15,99, p = <0,001, ηp 2 = 0,34], но не для блуждания ума [ F (1,31) = 0,01, p = 0,91, ηp 2 = 0,05] или подсказки * блуждающего взаимодействия [ F (2,62) = 2,57, p = 0,09, ηp 2 = 0,08]. Парные сравнения показали более высокие адаптивные средние амплитуды pP1 для двойного состояния по сравнению с центральным сигналом [ t (32) = −5.65, p <0,001] и пространственная реплика [ t (32) = 5,42, p <0,001].
Что касается pP1 с фиксацией цели, снова были обнаружены значительные эффекты для реплики [ F (3,93) = 7,94, p = <0,001, ηp 2 = 0,20], но не для блуждания ума [ F (1,31) = 1,97, p = 0,17, ηp 2 = 0,06] ни сигнал * блуждающее взаимодействие [ F (3,93) = 0,56, p = 0,64, ηp 2 = 0.02]. Последующее сравнение показало меньшие адаптивные средние амплитуды для отсутствия сигнала по сравнению со всеми другими условиями сигнала [без сигнала и центрального сигнала, t (32) = 3,9, p <0,001; без кия и двойной кий, t (32) = 3,17, p = 0,003; без реплики и пространственной реплики, t (32) = -4,1, p <0,001].
pN Компонент
Для pN с блокировкой сигнала значимые основные эффекты были обнаружены для сигнала [ F (2,62) = 10,22, p <0.001, ηp 2 = 0,25], но не для блуждания ума [ F (1,31) = 2,4, p = 0,13, ηp 2 = 0,07] ни для подсказки взаимодействия * блуждания разума [ F (2,62) = 0,52, p = 0,60, ηp 2 = 0,02]. Парные сравнения выявили значительно большую адаптивную среднюю амплитуду для пространственной реплики по сравнению со всеми другими репликами [двойная реплика, t (32) = 4, p <0,001; центральный кий, t (32) = 3,4, p = 0.002].
Компонент P3
Что касается P3 с захватом цели, значительные основные эффекты были обнаружены для целевого состояния [ F (2,62) = 25,31, p <0,001, ηp 2 = 0,45], скальп область [ F (1,31) = 77,30, p <0,001, ηp 2 = 0,71], а также целевой области взаимодействия * область скальпа [ F (2,62) = 8,53, p <0,001 , ηp 2 = 0,22]. Опять же, не было обнаружено значительных основных эффектов блуждания ума [ F (1,31) = 0.38, p = 0,54, ηp 2 = 0,01], и взаимодействия блуждающие разум * цель [ F (2,62) = 0,25, p = 0,77, ηp 2 = 0,008], разум -блуждающий * область кожи головы [ F (1,31) = 3,19, p = 0,08, ηp 2 = 0,09], блуждающий разум * цель * область кожи головы [ F (2,62) = 1,56 , p = 0,22, ηp 2 = 0,05].
Парные сравнения были выполнены между конгруэнтными, неконгруэнтными и нейтральными целями для теменной и затылочной областей.Таблица 2 показывает, что адаптивные средние амплитуды P3 были значительно больше для конгруэнтных и нейтральных по сравнению с неконгруэнтными целями в теменных и затылочных электродах (эффект конфликта). Мы обнаружили более крупные компоненты P300 для теменных электродов по сравнению с затылочными электродами для конгруэнтных ( t32 = -7,98, p <0,001), неконгруэнтных ( t32 = -7,59, p <0,001) и нейтральных ( t32 = -8,23, p <0,001).
Таблица 2 Эффекты конфликта P3 для каждой области кожи головы.Прайминг и психология памяти
В психологии прайминг — это техника, при которой введение одного стимула влияет на то, как люди реагируют на последующий стимул. Прайминг работает за счет активации ассоциации или представления в памяти непосредственно перед тем, как вводится другой стимул или задача. Это явление происходит без нашего осознания, но оно может иметь большое влияние на многие аспекты нашей повседневной жизни.
Что такое грунтовка?
Есть много разных примеров того, как работает эта грунтовка.Например, если кто-то услышит слово «желтый», это вызовет более быструю реакцию на слово «банан», чем на несвязанные слова, такие как «телевидение». Поскольку желтый и банан более тесно связаны в памяти, люди быстрее реагируют на второе слово.
Priming может работать со стимулами, которые связаны множеством способов. Например, прайминговые эффекты могут возникать с перцептивно, лингвистически или концептуально связанными стимулами. Прайминг может иметь многообещающие практические применения в качестве учебного пособия.
Грунтовка названа так, чтобы вызвать образ заливного колодца. После заливки скважины вода может производиться всякий раз, когда она включается. Как только информация будет загружена в память, ее можно будет легче восстановить.
Типы
В психологии есть несколько различных типов прайминга. Каждый из них работает определенным образом и может иметь разные эффекты.
- Положительная и отрицательная заливка описывает, как заливка влияет на скорость обработки.Положительное заполнение ускоряет обработку и ускоряет извлечение памяти, в то время как негативное заполнение замедляет его.
- Семантическое праймирование включает слова, которые связаны логическим или лингвистическим способом. Предыдущий пример более быстрой реакции на слово «банан» после введения слова «желтый» является примером семантического прайминга.
- Ассоциативное праймирование включает использование двух стимулов, которые обычно связаны друг с другом. Например, «кошка» и «мышь» — это два слова, которые часто связаны друг с другом в памяти, поэтому появление одного из слов может заставить испытуемого быстрее реагировать при появлении второго слова.
- Прайминг повторения происходит, когда стимул и ответ повторяются в паре повторно. Из-за этого испытуемые с большей вероятностью будут реагировать определенным образом быстрее каждый раз, когда появляется стимул.
- Перцепционная прайминг включает стимулы схожей формы. Например, слово «коза» вызовет более быстрый отклик, если ему предшествует слово «лодка», потому что эти два слова схожи по восприятию.
- Концептуальное праймирование включает в себя стимул и ответ, которые концептуально связаны.Такие слова, как «стол» и «стул», вероятно, будут иметь эффект прайминга, потому что они относятся к одной концептуальной категории.
- Маскированное праймирование включает в себя некоторое затенение части начального стимула, например, с помощью решетки. Несмотря на то, что весь стимул не виден, он все равно вызывает реакцию. Слова, в которых некоторые буквы скрыты, являются одним из примеров замаскированного грунтования.
Процесс грунтовки
Психологи считают, что единицы (или схемы) информации хранятся в долговременной памяти.Активация этих схем может быть увеличена или уменьшена различными способами. Когда активация определенных единиц информации увеличивается, эти воспоминания становятся более доступными. При уменьшении активации уменьшается вероятность извлечения информации из памяти.
Priming предполагает, что определенные схемы, как правило, активируются в унисон. При активации некоторых единиц информации связанные или связанные единицы также становятся активными.
Итак, почему было бы полезно активировать связанные схемы и сделать их более доступными? Во многих случаях возможность быстрее извлекать связанную информацию в память может помочь людям быстрее реагировать, когда возникает необходимость.
Например, схемы, относящиеся к ливням и скользким дорогам, могут быть тесно связаны в памяти. Когда вы видите, что идет дождь, на ум также могут прийти воспоминания о возможных скользких дорожных условиях. Поскольку ваш разум настроен думать об этой информации, вы, возможно, будете лучше способны быстро думать и быстро реагировать, когда вы встречаетесь с опасным влажным участком дороги по дороге домой с работы.
Воздействие в реальном мире
Прайминг наблюдался разными способами в психологических исследовательских лабораториях, но какое влияние оно действительно оказывает в реальном мире?
Как вы воспринимаете мир
Недавний вирусный феномен Янни / Лорел — один из примеров того, как прайминг может влиять на то, как вы воспринимаете информацию.Неопределенный образец звука был загружен онлайн-пользователем с опросом, в котором спрашивал, что люди слышали.
Кто-то отчетливо слышал «Янни», а кто-то отчетливо слышал «Лорел». Некоторые люди даже сообщали, что могут переключаться между услышанными словами.
Из-за неоднозначности слуха психологи предполагают, что люди полагаются на эффекты прайминга, чтобы определить, что они с большей вероятностью услышат.
Исследования показывают, что мы не слышим, анализируя частоты шумов, которые проникают в наши уши, а затем определяя слова, которые эти частоты образуют.
Вместо этого мы используем так называемую обработку сверху вниз. Наш мозг сначала распознает некоторые звуки, такие как речь. Затем наш мозг использует контекстные подсказки, чтобы интерпретировать значение этих звуков речи.
Это может помочь объяснить, почему люди часто неверно истолковывают тексты песен. Когда звук неоднозначен, ваш мозг восполняет недостающую информацию как можно лучше. Затем в игру могут вступить эффекты грунтовки. Если вы настроены интерпретировать текст определенным образом, у вас будет больше шансов услышать его определенным образом на основе этого прайминга.
Когда дело доходит до того, чтобы послушать Янни или Лорел, простое осознание природы вирусного аудиоклипа заставляет вас услышать его как то или иное. Тот факт, что люди, которые слышали клип, уже ожидали услышать либо Янни, либо Лорел, побудил их услышать одно из этих двух слов, а не какое-то другое.
В этом случае также сыграли роль факторы, связанные с качеством звука и слухом. Молодые люди с меньшим возрастным нарушением слуха чаще слышат «Янни», потому что их уши лучше воспринимают более высокочастотные звуки.Те, кто слышал Лорел, как правило, слышали только низкочастотные звуки.
Как вы ведете себя
В одном исследовании исследователи неявно наполняли участников словами, которые обычно ассоциируются со стереотипами о пожилых людях. Покидая кабину для тестирования, люди, которые были наставлены словами, относящимися к пожилым людям, с большей вероятностью шли медленнее, чем участники, которые не были грунтованный.
Одно исследование, опубликованное в журнале Aging and Mental Health , показало, что приобщение участников к негативным стереотипам старения приводило к более негативным последствиям для поведения и самооценки.Воспитание участников этими негативными стереотипами о старении привело к усилению чувства одиночества и увеличению частоты обращения за помощью.
Другими словами, напоминание о стереотипах об одиночестве и беспомощности пожилых людей на самом деле приводило к тому, что люди чувствовали себя более одинокими и действовали более беспомощно.
Исследователи предполагают, что подверженность таким возрастным стереотипам может привести к усилению зависимости и снижению самооценки способностей и функционирования у пожилых людей.
Как вы учитесь
Учителя и преподаватели также могут использовать предварительную подготовку в качестве средства обучения. Некоторые учащиеся успевают лучше, если знают, чего ожидать. Изучение нового материала иногда может быть пугающим, но может помочь подготовка учащихся путем представления информации перед уроком.
Прайминг часто используется как образовательное мероприятие для учащихся с определенными трудностями в обучении. Новый материал представляется перед преподаванием, что позволяет студенту освоиться с ним.
Например, учащимся может быть разрешено «предварительно просмотреть» книги или материалы, которые будут использоваться как часть урока. Поскольку они уже знакомы с информацией и материалами, они могут лучше сосредоточить внимание во время самого урока.
Слово Verywell
Хотя прайминг происходит вне сознательного осознания, этот психологический феномен может играть важную роль в вашей повседневной жизни. От влияния на то, как вы интерпретируете информацию до вашего поведения, прайминг может влиять на ваше восприятие, эмоции и действия.
Острое и посттравматическое стрессовое расстройство после самопроизвольного аборта
1. Hertz E. Психологические последствия потери беременности. Психиатр Энн . 1994; 14: 454–7 ….
2. Руководство Merck по диагностике и терапии. 17-е изд. Рэуэй, Нью-Джерси: Мерк, 1999: 2053–4.
3. Смит NC. Эпидемиология самопроизвольных абортов. Contemp Rev Obstet Gynecol . 1988; 1: 43–9.
4. Стиррат GM. Рецидивирующий выкидыш I: определение и эпидемиология. Ланцет . 1990; 336: 673–5.
5. Бейл Э.Р. Выкидыш: влияние выбранных переменных на воздействие. Женщины Ther . 1992; 12: 161–73.
6. Neugebauer R, Клайн Дж, О’Коннор П., Крик П, Джонсон Дж. Шкодол А, и другие. Детерминанты депрессивных симптомов в первые недели после выкидыша. Am J Public Health . 1992; 82: 1332–9.
7. Neugebauer R, Клайн Дж, О’Коннор П., Крик П, Джонсон Дж. Шкодол А, и другие.Депрессивные симптомы у женщин через полгода после выкидыша. Am J Obstet Gynecol . 1992; 166 (ч. 1): 104–9.
8. Prettyman RJ, Кордл CJ, Повар Г.Д. Трехмесячное наблюдение за психологическими заболеваниями после раннего самопроизвольного аборта. Br J Med Psychol . 1993; 66: 363–72.
9. Hutti MH. Восприятие родителями переживания выкидыша. Шпилька Смерти . 1992; 6: 401–15.
10. Фрост М, Condon JT.Психологические последствия выкидыша: критический обзор литературы. Aust N Z J Психиатрия . 1996. 30: 54–62.
11. Ли К., Слэйд П. Выкидыш как травмирующее событие: обзор литературы и новые значения вмешательства. J Psychosom Res . 1996. 40: 235–44.
12. Американская психиатрическая ассоциация. Диагностическое и статистическое руководство психических расстройств. 4-е изд. Вашингтон, округ Колумбия: Американская психиатрическая ассоциация, 1994: 427–8 431.
13. Бремнер Дж. Д., Саутвик С.М., Джонсон Д.Р., Иегуда Р., Чарни Д.С. Физическое насилие в детстве и посттравматическое стрессовое расстройство, связанное с боевыми действиями, у ветеранов Вьетнама. Am J Psychiatry . 1993; 150: 235–9.
14. Купман С, Классен C, Шпигель Д. Предикторы симптомов посттравматического стресса у выживших после огненной бури в Окленде / Беркли, Калифорния. Am J Psychiatry . 1994; 151: 888–94.
15. Карлсон Е.Б. Оценка травм: руководство для врача. Нью-Йорк: Гилфорд, 1997: 61–74.
16. Белси Е.М., Грир Х.С., Лал С, Льюис СК, Борода RW. Факторы прогнозирования эмоциональной реакции на аборт: исследование прекращения беременности Кинга — IV. Soc Sci Med . 1977; 11: 71–82.
17. Салвесен К.А., Ойен Л, Шмидт Н, Солод UF, Эйк-Нес Ш. Сравнение долгосрочных психологических реакций женщин после прерывания беременности из-за аномалий плода и после перинатальной потери. Ультразвуковой акушерский гинеколь . 1997; 9: 80–5.
18. Москарелло Р. Служба поддержки в перинатальном периоде утраты: обзор за три года. J Паллиат Уход . 1989; 5: 12–8.
19. Ильес С, Гат Д. Психиатрический исход прерывания беременности по поводу аномалии плода. Психол Мед . 1993; 23: 407–13.
20. Клок СК, Чанг Джи, Хили А, Хилл Дж. Психологический дистресс у женщин с повторным самопроизвольным абортом. Психосоматика . 1997; 38: 503–7.
21. Thapar AK, Тапар А. Психологические последствия выкидыша: контролируемое исследование с использованием опросника по общему состоянию здоровья и больничной шкалы тревожности и депрессии. Br J Gen Pract . 1992; 42: 94–6.
22. Зеленый BL, Роуленд JH, Крупник Ю.Л., Эпштейн С.А., Стоктон П., Стерн Н.М., и другие. Распространенность посттравматического стрессового расстройства у женщин с раком груди. Психосоматика . 1998. 39: 102–11.
23. Андриковский М.А., Кордова MJ, Studts JL, Миллер TW. Посттравматическое стрессовое расстройство после лечения рака груди: распространенность диагноза и использование Контрольного списка посттравматических стрессов — Гражданская версия (PCL-C) в качестве инструмента скрининга. J Консультируйтесь с Clin Psychol . 1998. 66 (3): 586–90.
24. Бол Н. Измерение эффективности CISD: исследование. Пожарная машина . 1995. 148: 125–6.
25. Bisson JI, Дженкинс П.Л., Александр J, Баннистер С. Рандомизированное контролируемое исследование психологического опроса пострадавших от острой ожоговой травмы. Br J Психиатрия . 1997. 171: 78–81.
26. Митчелл Дж.Т., Эверли Г.С. Анализ стресса в критических ситуациях. Элликотт-Сити, штат Мэриленд: Шеврон, 1995: 180.
27. Everly GS, Mitchell JT. Профилактика посттравматического стресса, связанного с работой: критический процесс анализа стресса. В: Вмешательства по работе со стрессомВашингтон, округ Колумбия: Американская психологическая ассоциация, 1995: 173–83.
28. Купман С, Классен C, Кардена Э, Шпигель Д. Когда случается бедствие, может последовать острое стрессовое расстройство.
