в чём отличие от Европы? — Россия в глобальной политике
В Восточной Азии, как и в Европе, периодически вспыхивают кризисы, чреватые переходом с регионального на глобальный уровень. Однако международная конфликтность имеет там несколько иной генезис, чем в Старом Свете. Условный Восток (и, в частности, Восточную Азию) отличает гораздо более высокая степень цивилизационно-исторической, этноконфессиональной и национально-психологической гетерогенности.
Например, в Восточной Азии, в отличие от условного Запада, который развивался под эгидой единой христианской цивилизации, сосуществуют такие конфессионально-культурные ареалы, как конфуцианско-буддистский, исламский, христианский. Более разнообразны и формы общественно-политического строя: авторитарные режимы соседствуют с демократиями, причём практическая шкала «авторитарности» и «демократичности» гораздо шире, чем на евроатлантическом пространстве. Консенсус по поводу единых «норм и правил», формирующих общий порядок, обеспечить практически невозможно.
Отторжение западных ценностей и политической культуры связано во многих странах Востока с горьким историческим опытом колониальной эпохи. Вторжение европейских держав подорвало действовавшие веками порядки и вызвало крах китаецентричной вассально-даннической системы. Давние обиды и предубеждения по отношению к европейцам, а также неприятие их глобалистского взгляда на безопасность есть не только в Китае, но и в других странах региона. Это подпитывает восточноазиатский национализм и уверенность, что при строительстве институтов региональной интеграции следует обойтись без Запада, а сами институты должны быть устойчивы к внешнему давлению (достаточно вспомнить лозунг Махатхира Мохамада – «Азия для азиатов»)[1]. За этим стоит не только память о колониальной эпохе, но и осмысление более свежих событий, когда «помощь» западных стран и созданных ими глобальных структур управления оказывалась мало- и даже контрпродуктивной (например, при преодолении последствий азиатского финансового кризиса 1997–1998 гг.
Общие же азиатские ценности, которые могли бы стать основой международного сотрудничества в регионе, куда менее очевидны, чем на Западе.
Например, считается, что азиатские культуры отдают предпочтение интересам группы, а не индивида; порядку, а не свободе; обязательствам, а не правам. Но в реальности этические нормы в разных странах Востока могут и основываться на приоритете традиционной социальной иерархии, и находиться ближе к западным стандартам с акцентом на эгалитаризм и равенство возможностей. Строительство коллективных или многосторонних систем безопасности, базирующихся на общем понимании, – задача здесь гораздо более сложная, чем в Европе.
Не холодной войной единой
В отличие от сегодняшней Европы, где кризисы, подобные украинскому, связаны с наследием холодной войны и постбиполярного мироустройства, значительная часть конфликтов Восточной Азии уходит корнями в более отдалённые эпохи – колониальную и даже доколониальную.
Пребывая обычно в тлеющем состоянии, противоречия периодически вспыхивают по причине повышенной общественной чувствительности.
Смена поколений привела к существенному поправению электоральных слоёв, обострению национализма, запросу на проактивную внешнюю политику для защиты национальных интересов не только экономическими, но и военными рычагами. С конца 2010-х гг. для идейного обоснования такой политики лидеры Китая, Японии и Республики Корея всё чаще обращаются к прошлому. Они выступают за пересмотр прежних исторических нарративов и утверждение в официальном дискурсе более «патриотичного» видения истории, которое позволило бы им укрепить легитимность и повысить рейтинги доверия среди населения.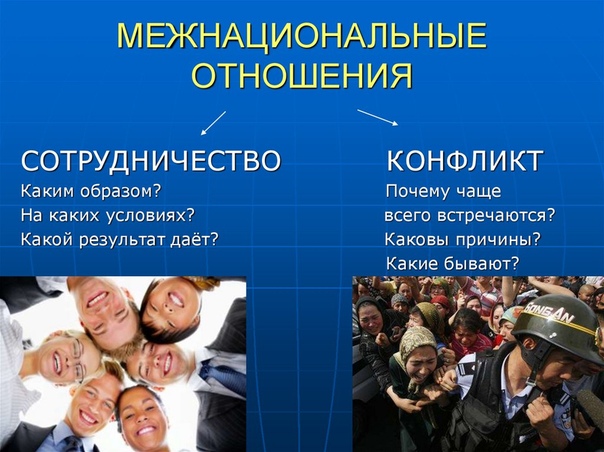
Нередко «исторические конфликты» насаждаются из внутриполитических соображений. Используя травматическую память о прошлых (в том числе и тех, которые имели место десятилетиями и даже столетиями ранее) потрясениях и проявлениях несправедливости в отношении собственных стран, лидеры государств Восточной Азии добиваются лояльности населения и его консолидации. Самостоятельно формируя новую идентичность, основанную, в частности, на нарративах исторических обид, политические элиты воспринимают аналогичные усилия элит стран-партнёров как вызов. Постоянные требования извинений от источников исторической несправедливости усугубляют конфронтационность и ведут к серьёзным дипломатическим конфликтам.
Для внедрения исторических нарративов в общественное сознание государства широко используют образовательные, медийно-популяризаторские и политико-идеологические методы и средства. Эти идеи отражены в учебных программах, воспроизводятся средствами массовой информации, в выступлениях лидеров общественного мнения, публикациях и комментариях экспертно-академического сообщества, становятся средством патриотического воспитания масс. Большую роль играют мемориалы и музеи, обеспечивающие соответствующее историческое просвещение.
Эти идеи отражены в учебных программах, воспроизводятся средствами массовой информации, в выступлениях лидеров общественного мнения, публикациях и комментариях экспертно-академического сообщества, становятся средством патриотического воспитания масс. Большую роль играют мемориалы и музеи, обеспечивающие соответствующее историческое просвещение.
Например, в Китае тема исторических обид тесно связана со «столетием унижения» (1839–1949 гг.). Идея преодоления исторической несправедливости, ответственность за которую несут «великие державы» – государства Запада и соседи (прежде всего Япония), – выражена в концепции китайской мечты о великом возрождении китайской нации.
Доминирующая в общественно-политическом дискурсе Республики Корея однозначно негативная оценка периода японского колониального правления 1910–1945 гг. не позволяет полноценно нормализовать отношения с Токио, хотя обе страны принадлежат к лагерю военно-политических союзников США и угрозы безопасности у них общие.
Страны Юго-Восточной Азии не могут договориться с Китаем о «кодексе поведения» в Южно-Китайском море во многом по причине недоверия к азиатскому гиганту.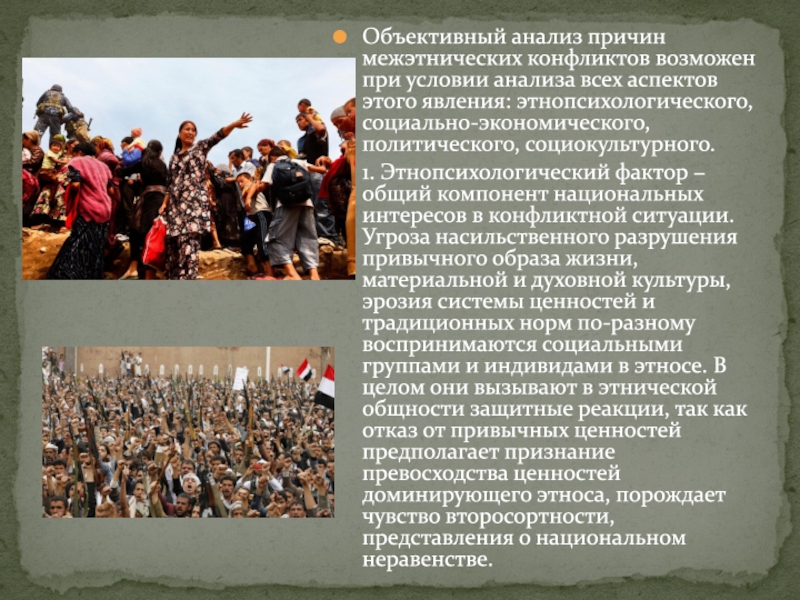
Территории раздора
Территориальные разногласия на Востоке проявляются гораздо острее, чем на Западе. Например, в Восточной Азии проблемы Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей, связанные с суверенными правами на обширные акватории, богатые рыбой и энергоресурсами, стали постоянным источником конфликтов между Китаем и Японией, Китаем и Вьетнамом, Китаем и Филиппинами и так далее. Это тоже наследие колониальной системы: колониальные державы устанавливали границы между заморскими территориями достаточно произвольно, без учёта исторических, географических, популяционно-демографических, экономических и иных факторов. Главным критерием служили договорённости метрополий между собой. С началом деколонизации уважение территориальной целостности со стороны стран Запада превратилось в способ обеспечения независимости бывших колоний[2].
В послевоенный период в условиях военно-политического соперничества между Западом и Востоком постулат о нерушимости границ свято соблюдался. В его основе лежало осознание, что нарушение запрета на ведение войн между государствами (территориальные конфликты относятся к наиболее распространённым их видам) может перерасти в мировое ядерное столкновение. Тем не менее огромное количество унаследованных споров стало для многих стран Востока неприятным «довеском» к независимости.
Большинство этих разногласий упирается в отсутствие договорно-правовой базы, фиксирующей международно признанную систему границ.
В колониальный период она не сложилась в силу противоречий между метрополиями. К тому же в Восточной Азии не было понятия «государственные границы», подобного тому, что существовало в Европе в рамках вестфальской системы – для доминировавшей там синоцентричной вассально-даннической модели отношений это просто не требовалось[3].
К тому же в Восточной Азии не было понятия «государственные границы», подобного тому, что существовало в Европе в рамках вестфальской системы – для доминировавшей там синоцентричной вассально-даннической модели отношений это просто не требовалось[3].
Сан-Францисский мирный договор 1951 г., по сути, закрепил неурегулированность границ между Японией и её соседями (Китаем, Республикой Корея и СССР) и заложил бомбу замедленного действия под региональную систему международных отношений. В нём не указаны чёткие координаты территорий, от которых отказалась Япония по итогам Второй мировой войны, и не обозначены страны, в пользу которых это сделано. Таково коренное отличие от Европы, где в результате послевоенного урегулирования и Хельсинского заключительного акта, провозгласившего незыблемость границ, нет территориальных конфликтов, связанных с итогами Второй мировой войны.
В отличие от западных стран, готовых регулировать территориальные конфликты с помощью политических и судебных методов, в Восточной Азии (да и в целом в афро-азиатских странах) для решения территориальных споров не склонны обращаться в суды, в том числе и в Международный суд ООН. Это связано с тем, что данный орган отдаёт приоритет существующей договорной базе, которая, как уже отмечалось, за пределами Европы крайне слаба. Доверять суду третьей стороны большинство стран-участниц конфликтов не готовы.
Это связано с тем, что данный орган отдаёт приоритет существующей договорной базе, которая, как уже отмечалось, за пределами Европы крайне слаба. Доверять суду третьей стороны большинство стран-участниц конфликтов не готовы.
Американский эксперт Барбара Уолтер показывает, сколь важную роль в мотивации стран, вовлечённых в территориальный конфликт, играют репутационные соображения[4]. Правительства, ставшие объектом территориальных претензий, занимают жёсткую позицию и отказываются вести переговоры главным образом из-за опасения, что любые уступки будут восприняты как проявление слабости и спровоцируют новые претензии. Но риск потери лица в глазах прочих государств, вовлечённых в конфликт, либо третьих сторон, есть и для стран-субъектов территориальных исков, если им придётся отказаться от своих требований или их снизить. Это провоцирует жёсткость, даже когда проявление гибкости целесообразно ради стратегических интересов добрососедства. Переговоры заходят в тупик.
Напряжённость на границах, сохраняющаяся десятилетиями и не утратившая остроты в постбиполярный период, не позволяет нормализовать отношения, а в отсутствие спокойной и доброжелательной обстановки пограничные проблемы, в свою очередь, не находят решения. Порочный круг порождает перманентный кризис. К тому же после окончания холодной войны сдерживающий момент, связанный с вовлечённостью большинства постколониальных стран в орбиту ядерной биполярности, отошёл на задний план. Лишившись «привязки» к одному из двух противостоящих лагерей, страны Востока стали существенно меньше оглядываться на соображения мирополитического контекста и ориентироваться больше на собственные интересы, в частности, внутриполитические, часто трактуемые с эгоистических позиций и не учитывающие требования международной безопасности.
Порочный круг порождает перманентный кризис. К тому же после окончания холодной войны сдерживающий момент, связанный с вовлечённостью большинства постколониальных стран в орбиту ядерной биполярности, отошёл на задний план. Лишившись «привязки» к одному из двух противостоящих лагерей, страны Востока стали существенно меньше оглядываться на соображения мирополитического контекста и ориентироваться больше на собственные интересы, в частности, внутриполитические, часто трактуемые с эгоистических позиций и не учитывающие требования международной безопасности.
Отсутствие общих подходов к границам делает фактически нереализуемой идею запуска в Восточной Азии аналога Хельсинкского процесса, который закрепил бы принцип нерушимости границ и недопустимости войн из-за территорий[5]. Страны региона вынуждены считаться с реальными возможностями изменения статус-кво военной силой.
Как понимают безопасность
Восприятие современных конфликтов элитами многих незападных стран (в том числе Восточной Азии) и реагирование на них, проявляющиеся в государственной политике безопасности, существенно отличаются от западных моделей. На условном Западе повестка безопасности постепенно эволюционировала от военной и разоруженческой тематики к комплексной безопасности, включающей проблемы экологии, изменения климата, устойчивости развития, продовольственной и энергетической темы. Стабильное место в повестке получили вопросы борьбы с новыми угрозами, которые в отличие от традиционных проблем, касающихся прежде всего безопасности национального государства, носят универсальный, транснациональный характер и требуют скоординированных усилий человечества. Яркие примеры – борьба с пандемией COVID-19 и иными инфекциями, глобальным потеплением, международным терроризмом, киберпреступностью.
На условном Западе повестка безопасности постепенно эволюционировала от военной и разоруженческой тематики к комплексной безопасности, включающей проблемы экологии, изменения климата, устойчивости развития, продовольственной и энергетической темы. Стабильное место в повестке получили вопросы борьбы с новыми угрозами, которые в отличие от традиционных проблем, касающихся прежде всего безопасности национального государства, носят универсальный, транснациональный характер и требуют скоординированных усилий человечества. Яркие примеры – борьба с пандемией COVID-19 и иными инфекциями, глобальным потеплением, международным терроризмом, киберпреступностью.
На Востоке повестка безопасности по большей части по-прежнему ориентирована на интересы государства[6]. За ними стоят задачи высшей политической элиты, которые, как правило, приоритетны по сравнению с любыми транснациональными проектами. При разработке проектов в сфере национальной безопасности (оборонное строительство, усиление спецслужб и другие) зачастую одним из определяющих критериев выступают интересы военных и силовиков, а также приближённых к высшим кругам бизнесменов. Сами вызовы формулируются исходя из националистического представления об окружающем мире. Это, мягко говоря, не самые благоприятные предпосылки для построения устойчивых систем региональной безопасности.
Сами вызовы формулируются исходя из националистического представления об окружающем мире. Это, мягко говоря, не самые благоприятные предпосылки для построения устойчивых систем региональной безопасности.
Замкнутость на собственных интересах, неспособность к компромиссу и широкому видению проблем, национальный эгоизм вступают в противоречие с общими интересами и становятся источником конфликтов, в том числе вооружённых.
В политических режимах многих стран Азии преобладают персоналистские начала, автократические традиции, жёсткие формы государственного управления[7]. На национальном уровне это создаёт перекос в сторону обеспечения личных гарантий безопасности правителя и его ближайшего окружения, которые понимаются как ключевые аспекты безопасности всего государства. На международном уровне эти вопросы могут стать предметом торга и даже закулисных сделок между державами глобального уровня. Например, безопасность КНДР обсуждается во многом как вопрос личной безопасности государственного руководства, причём не только лидера, но и его окружения.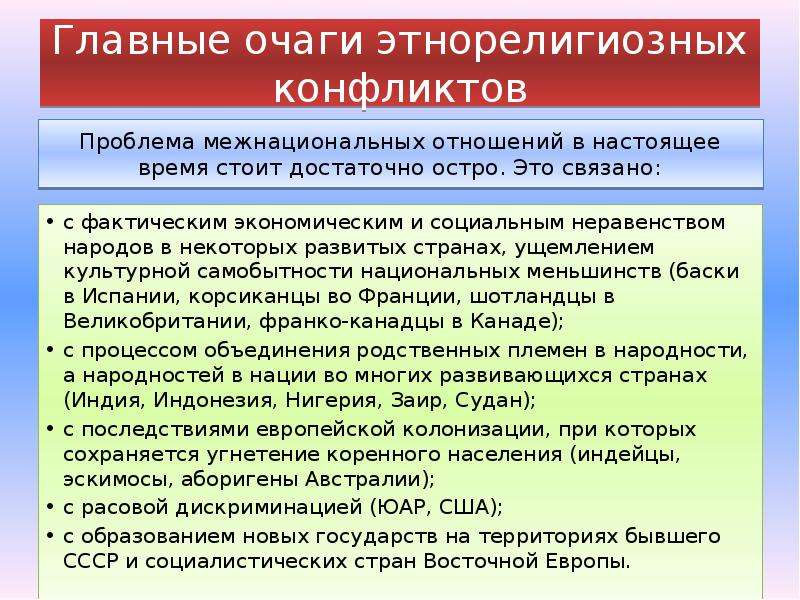
Государства Восточной Азии, будучи продуктом освобождения от колониальной или полуколониальной зависимости, ценят национальный суверенитет гораздо выше, чем европейские страны, которые не боятся передавать часть полномочий, в том числе касающихся вопросов внешней политики и безопасности, на надгосударственный уровень, как в случае с ЕС или НАТО. В Восточной Азии передача части суверенных прав внешним субъектам рассматривается как частичная утрата суверенитета, а значит – как переход к зависимости. Недостаток ценностного и морально-этического обоснования для такого шага обуславливает то, что собственные национальные интересы имеют явный приоритет над региональными и межгосударственными.
Этнические конфликты
Ещё один пример специфики конфликтности за пределами Европы – этноконфессиональная сфера. Многие страны «третьего мира» сталкиваются с этническими и этноконфессиональными конфликтами при решении задачи национального строительства. Имея как внутреннее, так и международно-политическое измерение, такие конфликты протекают гораздо активнее и обретают более агрессивные формы, чем на Западе, дестабилизируя международно-политическую обстановку и создавая источники напряжённости.
Есть точка зрения, что межэтнические конфликты чаще всего связаны вовсе не с этническими различиями, а с политическими, экономическими, социальными, культурными или территориальными проблемами[8]. Между тем в основе этнических и конфессиональных конфликтов на Востоке лежат иные структурные, политические, экономические, социально-культурные и перцептивные причины, а динамика развития определяется факторами, отличными от наблюдаемых на Западе.
В качестве структурных факторов, составляющих восточную специфику, можно назвать более слабую, чем на Западе, государственность.
Это, конечно, относится не ко всем – в Азии, например, достаточно устойчивых и динамичных государств. Но хватает и тех, кто не контролирует всю территорию и сталкивается с сепаратизмом, подогреваемым соседями. Присутствует и этногеографический фактор (он касается практически всех), выражающийся в транснациональном характере расселения этнических групп, которые зачастую лишены должного представительства в центральных органах власти и борются за право самоопределения.
Этнические конфликты чаще возникают там, где ради модернизации предпринимаются попытки создать единые «нации» в границах централизованных государств. Обретение государственного суверенитета и территориальной целостности после провозглашения независимости в некоторых случаях сопровождалось принуждением к ассимиляции отдельных этнических групп во имя «национального строительства». Под лозунгами укрепления единства в государствах «третьего мира» нередко подавляли идентичность малых этносов или нацменьшинств и игнорировали их специфические интересы. Дискриминационные практики проявлялись там, где границы, установленные в процессе колонизации и деколонизации, охватывали ареалы компактного проживания различных этнических групп и означали необходимость уживаться между собой в рамках неестественной или противоречащей их политическим и экономическим интересам территориально-государственной единицы.
Иначе, чем на Западе, действуют политические факторы. Одна из главных причин этноконфессиональных конфликтов – политика, принижающая определённые этносы. Это может быть, например, отказ в гражданстве или политических и экономических правах, использование партией власти дискриминационных социально-культурных практик в отношении этнических меньшинств, включая их принудительную культурную и языковую ассимиляцию. Не менее важную роль в создании условий для потенциально жестоких этнических конфликтов играют экономические и социальные факторы: дискриминация этнических меньшинств при приёме на работу, несправедливая с точки зрения нетитульных наций система распределения национального дохода или политика регионального развития в отношении мест с компактным проживанием нетитульных наций. Всё это способствует мобилизации меньшинств и предопределяет чрезвычайно острый и даже непримиримый характер этнических конфликтов.
Это может быть, например, отказ в гражданстве или политических и экономических правах, использование партией власти дискриминационных социально-культурных практик в отношении этнических меньшинств, включая их принудительную культурную и языковую ассимиляцию. Не менее важную роль в создании условий для потенциально жестоких этнических конфликтов играют экономические и социальные факторы: дискриминация этнических меньшинств при приёме на работу, несправедливая с точки зрения нетитульных наций система распределения национального дохода или политика регионального развития в отношении мест с компактным проживанием нетитульных наций. Всё это способствует мобилизации меньшинств и предопределяет чрезвычайно острый и даже непримиримый характер этнических конфликтов.
В постбиполярный период тенденция к демократизации в ранее авторитарных странах, пробивающая себе дорогу по мере глобализации, предоставила этническим меньшинствам больше возможностей. Широкое освещение проблем дискриминации меньшинств в международном медийном пространстве привлекло внимание мировой общественности, что, в свою очередь, стимулировало протесты этнических групп в пользу самоопределения (можно вспомнить выступления курдов в Турции и Сирии, «движение подсолнухов» на Тайване, беспорядки в Тибете и в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая).
Этнически обусловленные сепаратистские и ирредентистские движения, несущие риск дезинтеграции и фрагментации государства, стали большой проблемой для многих стран Азии и Африки. Но за исключением отдельных случаев (Бангладеш, Эритрея, Восточный Тимор) они не добились национального самоопределения, оставшись серьёзнейшим источником не только внутренней, но и международной конфликтности[9].
Европа – не пример, но риск
Ситуация в сфере международной безопасности Восточной Азии принципиально не изменилась со времени холодной войны. Она коренным образом отличается от ситуации в Европе. Это пресловутая система оси и спиц, для которой характерно наличие страны гегемона и её младших партнёров. Ослабление США и уменьшение их военного присутствия (процесс, наблюдавшийся на протяжении нескольких десятилетий) так и не привели к появлению действенных механизмов региональной безопасности. Имеющиеся форматы носят сугубо диалоговый характер и не предполагают решений обязывающего характера. В силу приверженности принципу незыблемости суверенитета государства Восточной Азии не хотят стеснять себя ограничениями и лишаться пространства для манёвра. К тому же эффективность многосторонних мер непредсказуема в силу неопределённости перспектив развития международной ситуации, страха перед появлением «чёрных лебедей» и других причин.
В силу приверженности принципу незыблемости суверенитета государства Восточной Азии не хотят стеснять себя ограничениями и лишаться пространства для манёвра. К тому же эффективность многосторонних мер непредсказуема в силу неопределённости перспектив развития международной ситуации, страха перед появлением «чёрных лебедей» и других причин.
Тенденция к автономизации политики в сфере безопасности восточноазиатских стран усиливается по мере усугубления деглобализации и снижения управляемости международной системы. Одним из катализаторов стала пандемия коронавируса. Государства вновь подтвердили ведущую роль в реагировании на кризисы и защите суверенитета, использовании чрезвычайных методов управления экономикой в нештатные периоды при отказе от международного сотрудничества[10].
«Пандемийный национализм» подорвал авторитет институтов глобализации и международного порядка, опирающихся на принципы многосторонности в решении проблем безопасности.
Конечно, в Азии есть источники конфликтности, сходные с теми, что существуют в Европе. Например, в Восточной Азии таковым стал назревающий десятилетиями конфликт между Китаем и его соседями, обеспокоенными ростом напористости Пекина в регионе. В первую очередь это восточноазиатские союзники США, которые пытаются координировать усилия по «сдерживанию Китая». Это созвучно текущему конфликту в Европе между Россией с коллективным Западом.
Например, в Восточной Азии таковым стал назревающий десятилетиями конфликт между Китаем и его соседями, обеспокоенными ростом напористости Пекина в регионе. В первую очередь это восточноазиатские союзники США, которые пытаются координировать усилия по «сдерживанию Китая». Это созвучно текущему конфликту в Европе между Россией с коллективным Западом.
Китай и Россия – две страны, противостоящие «демократическому лагерю», – выступают за пересмотр установленных Западом «норм и правил», считая их несправедливыми. Обе испытывают схожий комплекс обиды на коллективный Запад: Китай – за «сто лет унижения» и доминирование Запада в институтах глобального управления, Россия – за отказ Запада считаться с её интересами после распада СССР и расширение НАТО на Восток. Близость интересов России и Китая касается не регионального, а общемирового порядка, и потому эти конфликты и порождаемые ими международные кризисы можно связать в единое целое как проявление «антиревизионистской» конфликтности глобального уровня.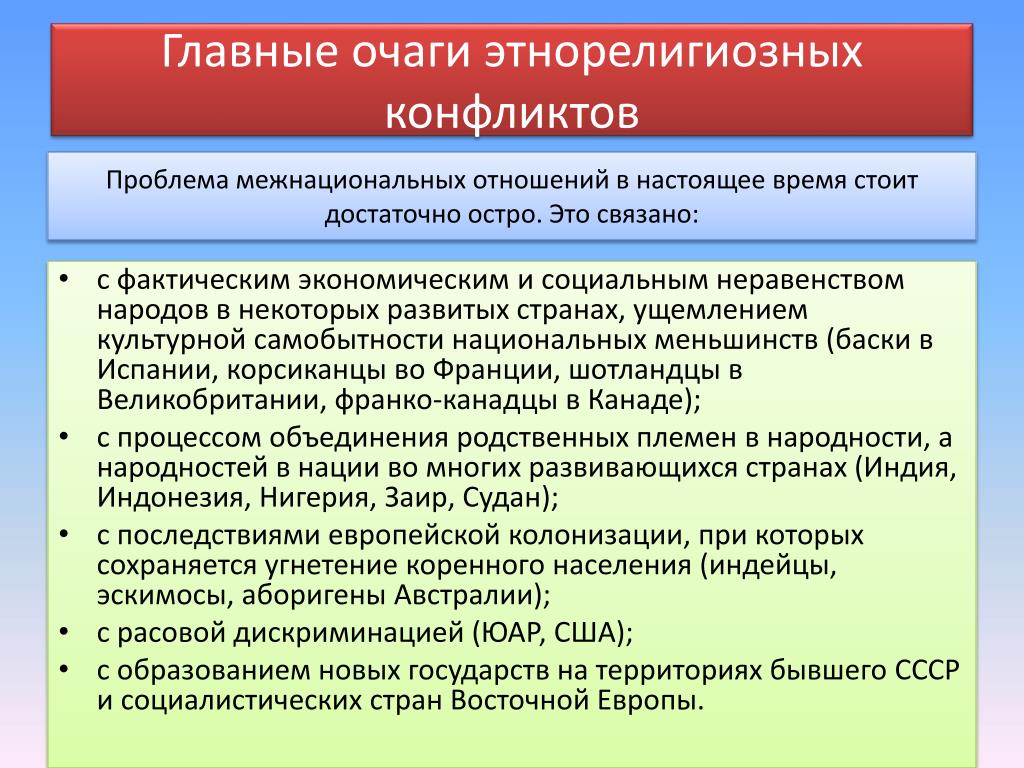
Получается, что опыт институтов поддержания безопасности, выстроенных в Европе во второй половине ХХ в., в Азии неприменим. А вот угрозы, которые в прошлом столетии превратили Европу в самую взрывоопасную часть мира, для Азии вполне актуальны. И они нарастают по мере того, как соперничество США и КНР превращается в основной сюжет международной политики, провоцируя милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона и общий рост мировой напряжённости.
Данный материал представляет собой дополненную и переработанную версию комментария, подготовленного по заказу Международного дискуссионного клуба «Валдай». Статьи автора для Валдайского клуба можно прочесть по адресу https://ru.valdaiclub.com/about/experts/6926/
Верховенство мнимости
Владимир Малявин, Артём Казанцев
В противовес западному суверенитету, предполагающему однородность его носителя, Китай предлагает «единство в многообразии», пространство «китайской специфики», которая открывает перспективу жизни в неформальной совместности. В этом смысле суверенитет даже невозможно поставить под угрозу.
В этом смысле суверенитет даже невозможно поставить под угрозу.
Подробнее
Сноски
[1] Премьер-министр Малайзии, предложивший в начале 1990-х гг. создать «Экономическое совещание восточноазиатских стран» без участия стран Запада.
[2] St J Anstis S.C., Zacher M.W. The Normative Bases of the Global Territorial Order // Diplomacy & Statecraft. 2010. Vol. 21. No. 2. P. 306.
[3] Колдунова Е. В. Безопасность в Восточной Азии: новые вызовы. М.: Navona, 2010. С. 83.
[4] Walter B. F. Explaining the Intractability of Territorial Conflict // International Studies Review. 2003. Vol. 5. No. 4. P. 138.
[5] Sahni V. From Security in Asia to Asian Security // International Studies. 2004. Vol. 41. No. 3. P. 260.
[6] Beeson M. Security in Asia: What’s Different, What’s Not? // Journal of Asian Security and International Affairs. 2014. Vol. 1. No. 1. P. 17.
[7] Howe B. State-Centric Challenges to Human-Centered Governance. In: B. Howe (Ed.), National Security, Statecentricity, and Governance in East Asia. Security, Development and Human Rights in East Asia. L.: Palgrave Macmillan, 2018. P. 2–3.
State-Centric Challenges to Human-Centered Governance. In: B. Howe (Ed.), National Security, Statecentricity, and Governance in East Asia. Security, Development and Human Rights in East Asia. L.: Palgrave Macmillan, 2018. P. 2–3.
[8] См.: Ethnic Conflict // Britannica. URL: https://www.britannica.com/topic/ethnic-group (дата обращения: 05.02.2023).
[9] Singh M. Ethnic Conflict and International Security: Theoretical Considerations // World Affairs. 2002. Vol. 6. No. 4. P. 72–89.
[10] Qingming H. The Pandemic and the Transformation of Liberal International Order Journal of Chinese // Political Science. 2021. Vol. 26. P.11–12.
Нажмите, чтобы узнать больше#Азия #безопасность #геополитика #конфликт #этнический конфликт #Юго-Восточная Азия
есть ли решение? — Клуб «Валдай»
Анализ ситуации
Из-за растущей напряжённости между США и Китаем и преобладающей в СМИ и в дипломатических кругах риторики о конфликте между Индией и Китаем (в дополнение к поддержке Австралией стратегии и оперативных военных планов США) в ближайшее время перспектив урегулирования, похоже, пока не предвидится.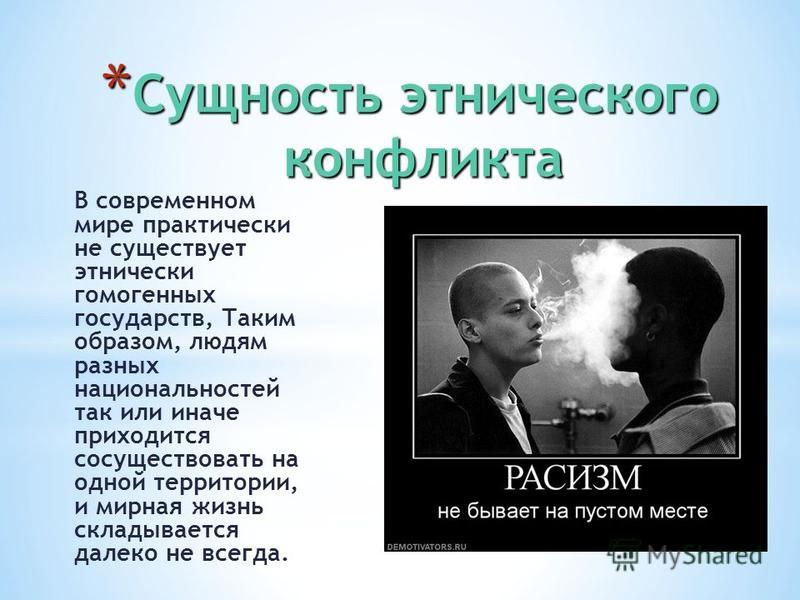 Кроме того, китайские технологические компании, эксперты, исследователи и учёные подвергаются в США и Европе контролю и слежке. Это вызывает дипломатическую реакцию Китая, приводя к ответным мерам против западных физических и юридических лиц.
Кроме того, китайские технологические компании, эксперты, исследователи и учёные подвергаются в США и Европе контролю и слежке. Это вызывает дипломатическую реакцию Китая, приводя к ответным мерам против западных физических и юридических лиц.
Также растёт желание Вашингтона поддерживать конфликты низкой интенсивности между Индией и Китаем, а также Индией и Пакистаном. Потенциальные локальные и региональные конфликты могут послужить катализатором, если США и их западные союзники решат повысить стратегические ставки в Азии. Однако это не должно мешать Китаю и Индии, Пакистану и Индии, а также России и странам ЕС, в частности Германии, заключать договорённости о сотрудничестве и использовать дипломатические механизмы для установления регионального мира и стабильности в Южной Азии. Совместные предприятия, проведение совместных научных исследований по защите окружающей среды и распределению финансовых ресурсов станут контрмерами против планов США по вмешательству в азиатские споры.
Решимость Китая реализовать своё экономическое влияние в форме инициативы «Пояс и путь» убедила многие азиатские страны в том, что компромиссы в отношении вполне легитимной международной роли Китая не равносильны поддержке его идеологической позиции. В результате многие азиатские страны получают выгоду от роста экономической активности, создания инфраструктуры и экономического взаимодействия. Сложный характер конфликтов между Индией и Китаем, Индией и Непалом (пограничный спор) и Пакистаном и Индией требует большего взаимопонимания и коллективного дипломатического урегулирования.
Почему Южная Азия важна для России?
Напористость Китая в области экономики и безопасности на Юге и за его пределами подпитывает идеи США и их союзников о ревизионистском вызове тому, что они считают «международным стратегическим порядком в областях экономики и безопасности». Китайская инициатива «Пояс и путь» явно вызывает возражения со стороны США и Запада в целом. Москва и Пекин возражают против интервенции США и НАТО в раздираемом войной регионе Донбасса (российско-украинская граница) и в провинции Синьцзян, где мусульмане-уйгуры составляют большинство. США должны воздерживаться от создания дальнейшей экономической и военной напряжённости, им необходимо добиваться уменьшения трений посредством диалога, соглашений и политики невмешательства, чтобы предотвратить появление красных линий, которые могут вызвать более широкий конфликт.
Москва и Пекин возражают против интервенции США и НАТО в раздираемом войной регионе Донбасса (российско-украинская граница) и в провинции Синьцзян, где мусульмане-уйгуры составляют большинство. США должны воздерживаться от создания дальнейшей экономической и военной напряжённости, им необходимо добиваться уменьшения трений посредством диалога, соглашений и политики невмешательства, чтобы предотвратить появление красных линий, которые могут вызвать более широкий конфликт.
Афганистан: вывод войск, стабильность и стратегическое влияние
На фоне мирных переговоров в Дохе Афганистан после ухода США и НАТО сталкивается с серьёзными проблемами безопасности. Пока «новое» правительство «Талибана» борется с экономическим кризисом, кризисом безопасности и гуманитарным кризисом, налицо множество рисков. Как считается, страны региона, особенно Россия, Китай и Пакистан, помогают стабилизации Афганистана. Одной из основных проблем является продолжающиеся нападения ИГИЛ на ни в чём не повинных мирных жителей, наряду с серьёзным гуманитарным кризисом, проблемой беженцев и отсутствием инклюзивного подхода со стороны правительства «Талибана». В результате вырисовываются три взаимосвязанных фактора нестабильности:
В результате вырисовываются три взаимосвязанных фактора нестабильности:
а) отсутствие у Запада, и особенно у США, интереса к решению экономических и гуманитарных проблем, с которыми сталкивается афганский народ;
б) отсутствие коллективного механизма для крупных государств по процедуре признания «Талибана», если он включит другие этнополитические группы в правительство;
в) активизация ИГИЛ и других террористических организаций на территории Афганистана, что вызывает повышенный риск терактов и сохраняющуюся нестабильность. Напротив, совместный механизм сотрудничества между Россией, Китаем, Пакистаном и другими странами региона способствовал бы решению краткосрочных и долгосрочных проблем, с которыми сталкивается афганский народ.
За последние два года азиатский регион превратился в одну из самых нестабильных частей мира, где локальные/региональные конфликты потенциально могут затронуть крупные державы (особенно США и их западных союзников), а риск крупной войны весьма велик.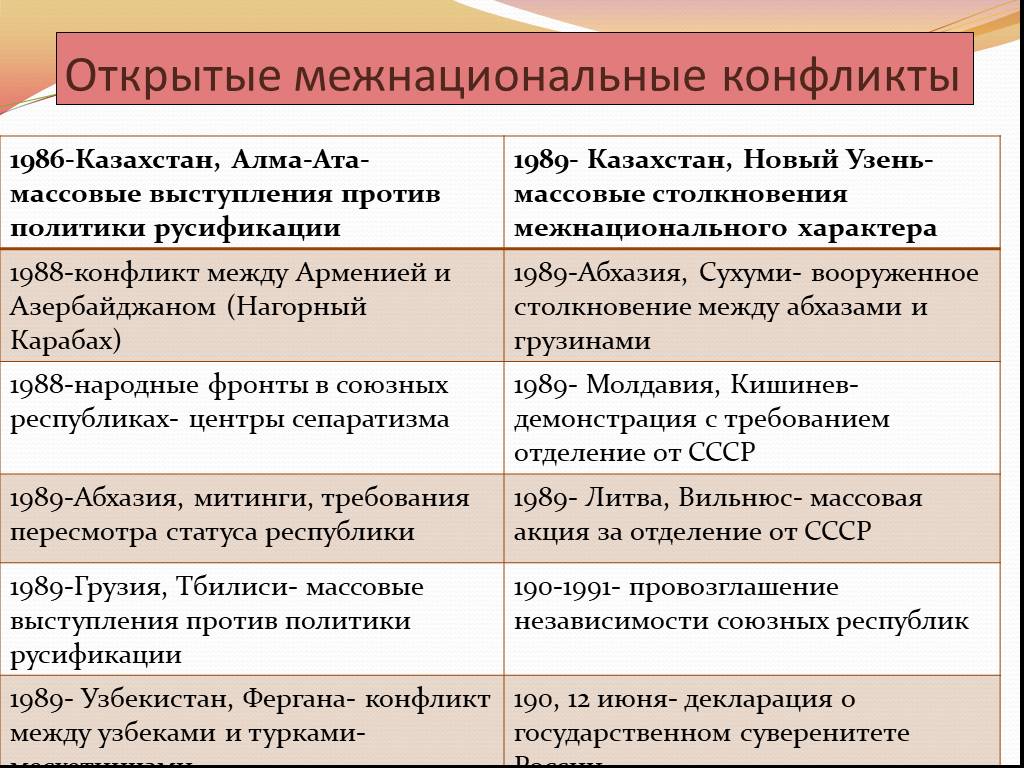 Также можно сделать вывод о том, что национальные стратегии на азиатском континенте претерпели изменения, например Непал, Шри-Ланка и Бангладеш рассматривают взаимодействие с Китаем как защиту от доминирования Индии. Ещё один вывод заключается в том, что Китай и Индия вряд ли достигнут всеобъемлющего соглашения по пограничному конфликту в обозримом будущем. Правила пограничного патрулирования и урегулирования кризисов помогут снизить напряжённость, но они не устранят периодические вспышки. Наконец, Россия, Китай и Пакистан должны продолжить совместную работу по продвижению инициатив, позволяющих помочь Афганистану достичь мира и экономического процветания.
Также можно сделать вывод о том, что национальные стратегии на азиатском континенте претерпели изменения, например Непал, Шри-Ланка и Бангладеш рассматривают взаимодействие с Китаем как защиту от доминирования Индии. Ещё один вывод заключается в том, что Китай и Индия вряд ли достигнут всеобъемлющего соглашения по пограничному конфликту в обозримом будущем. Правила пограничного патрулирования и урегулирования кризисов помогут снизить напряжённость, но они не устранят периодические вспышки. Наконец, Россия, Китай и Пакистан должны продолжить совместную работу по продвижению инициатив, позволяющих помочь Афганистану достичь мира и экономического процветания.
Межэтническая враждебность подрывает эффективность российской армии в Украине
Повторное вторжение России в Украину в 2022 году нанесло ущерб не только двусторонним отношениям между двумя соседями, большинство из которых — восточнославянские, но также — возможно, непреднамеренно — дестабилизировало связи, связи, добрую волю и взаимные доверие между российской периферией и центром, с одной стороны, и между отдельными этническими группами внутри Российской Федерации, с другой.
Станьте свидетелем недавнего конфликта между бурятами и чеченцами в составе сил вторжения. В конце апреля Главное разведывательное управление (ГУР) Минобороны Украины опубликовало заявление о перестрелке между российскими военнослужащими из сибирской республики Бурятия и чеченскими боевиками, верными лидеру Чечни Рамзану Кадырову. Сообщается, что в перестрелку в селе Киселевка в оккупированной Херсонской области было вовлечено более 100 военнослужащих. «Причины межэтнического конфликта — нежелание бурят идти в наступление и «неравенство» их положения по сравнению с положением чеченцев», — говорится в сообщении ГУР. Последние никогда не сражаются на передовой, всегда остаются в тылу в качестве «заградительных отрядов», сообщает разведслужба. «Их задача [чеченских боевиков] — заставить части оккупантов продвигаться вперед. То есть открыть огонь по тем, кто пытается отступить» (Gur.gov.ua, 29 апреля).; см. EDM, 26 апреля). Хотя в отчете ГУР мало подробностей, буряты, похоже, недовольны тем, что чеченские войска присвоили большую часть награбленного ими из украинских домов. Неудивительно, что сибирские военнослужащие восстали против сил Кадырова; но, возможно, в этой истории есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд.
Неудивительно, что сибирские военнослужащие восстали против сил Кадырова; но, возможно, в этой истории есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд.
Пару десятков лет назад эти же люди или их родственники могли воевать на противоположных сторонах другой войны, в 1000 км к юго-востоку, в Чечне. Бурятия до сих пор гордится тем, что с 1994, более 3500 его граждан «принимали участие в вооруженных конфликтах на Северном Кавказе. 86 человек погибли, еще 108 получили ранения, двое пропали без вести» (Tvatv.ru, 13 декабря 2019 г.). Хотя буряты численно намного уступали этническим русским солдатам, они выделялись своим внешним видом. Многие чеченцы до сих пор помнят, как они ездили на бронетранспортерах и дежурили на блокпостах. Бывший командир бурятского отряда милиции особого назначения Вячеслав Мархаев, отбывший шесть командировок в Чечне, даже создал сложную мифологию о своем пребывании там, которую он затем использовал в своей успешной политической карьере (Sibinfo.su, 10 октября 2015 г. ; Kprf.ru, по состоянию на 25 мая 2022 г.). Для бурятской армии и милиции чеченские войны могли служить источником дохода или лестницей для продвижения по службе; но для большинства чеченцев это была ожесточенная борьба за выживание. Эта запутанная сеть воспоминаний, ассоциаций и военного опыта, возможно, способствовала вспышке насилия в украинском селе.
; Kprf.ru, по состоянию на 25 мая 2022 г.). Для бурятской армии и милиции чеченские войны могли служить источником дохода или лестницей для продвижения по службе; но для большинства чеченцев это была ожесточенная борьба за выживание. Эта запутанная сеть воспоминаний, ассоциаций и военного опыта, возможно, способствовала вспышке насилия в украинском селе.
Буряты тоже были неотъемлемым атрибутом войны на Донбассе, начавшейся в 2014 году. в принуждении украинских правительственных войск, превосходящих по вооружению и маневренности, к отступлению от стратегического железнодорожного узла Дебальцево (см. EDM, 19 февраля 2015 г.; «Новая газета», 4 марта 2015 г.; Atlanticcouncil.org, 15 октября 2015 г.). Также недалеко от Дебальцево Иса Мунаев, уважаемый командир чеченского добровольческого отряда, сражавшегося на стороне украинцев, был убит во время выполнения разведывательной миссии (см. EDM, 6 февраля 2015 г.).
Неудивительно, что 37-я -я -я бригада также принимает участие в текущей кампании. Как и вышеупомянутая часть в Киселевке, она подняла мятеж, но на этот раз против собственного руководства. По словам украинского журналиста, один из бойцов бригады, возмущенный потерями, понесенными во время боев в начале марта под Киевом, наехал на танке ее командира полковника Юрия Медведева (Facebook/RomanTsymbaliuk, 23 марта). Войскам Национальной гвардии Чечни (Росгвардии) пришлось спасать Медведева от его подчиненных, эвакуируя его в больницу в Беларуси (EADaily, 11 марта). Судьба полковника остается неизвестной.
Как и вышеупомянутая часть в Киселевке, она подняла мятеж, но на этот раз против собственного руководства. По словам украинского журналиста, один из бойцов бригады, возмущенный потерями, понесенными во время боев в начале марта под Киевом, наехал на танке ее командира полковника Юрия Медведева (Facebook/RomanTsymbaliuk, 23 марта). Войскам Национальной гвардии Чечни (Росгвардии) пришлось спасать Медведева от его подчиненных, эвакуируя его в больницу в Беларуси (EADaily, 11 марта). Судьба полковника остается неизвестной.
Буряты ни в коем случае не являются единственным неславянским этническим меньшинством в российской армии, которое сообщает о большом количестве смертей. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что две республики Северного Кавказа — Северная Осетия и Дагестан — понесли сопоставимое число погибших (Медиазона, 26 апреля; «Истории», 20 мая). Фактически, на Дагестан, республику с населением 3,1 миллиона человек, приходится большая часть зарегистрированных смертей среди субъектов России. Однако в пересчете на душу населения она уступает абсолютным лидерам — Бурятии и Северной Осетии.
Однако в пересчете на душу населения она уступает абсолютным лидерам — Бурятии и Северной Осетии.
Это резко контрастирует с преимущественно русскими Москвой, Санкт-Петербургом и Московской областью. На сегодняшний день известно, что только трое жителей Москвы (шестой по величине город в мире, в котором проживает не менее 6,6% населения России) погибли в бою.
Часто повторяемый аргумент заключается в том, что «Полная безработица, мизерные зарплаты и долговая нагрузка населения означают, что практически единственный выбор, который стоит перед молодым человеком [в России] в поисках выхода из экономического тупика, — это нелегальная миграция. или служба в армии по контракту» («Сибирь Реалии», 12 мая). Но это, возможно, упрощенный и неискренний взгляд на реальность, которая недвусмысленно изображает русских — в данном случае бурятских — солдат-контрактников жертвами обстоятельств, лишая их какой-либо свободы действий и освобождая от ответственности. Дело в том, что есть много других российских республик с более низкими средними доходами (РИА Новости, 2 декабря 2019 г. ).; Riarating, 6 июня 2021 г.) и более высоким уровнем безработицы (РИА Новости, 1 ноября 2021 г.), где оппозиция агрессивным действиям российского руководства более остра. Хорошие примеры включают южные республики Карачаево-Черкесию и Калмыкию, в каждой из которых зарегистрировано по шесть смертей. Калмыкия представляет собой особенно показательный случай, поскольку она этнически и религиозно близка к Бурятии. Однако самое очевидное отличие состоит в том, что калмыки, как и карачаевцы, подверглись массовым сталинским репрессиям, которые, должно быть, оставили шрамы в их психике и сформировали их отношение к Москве.
).; Riarating, 6 июня 2021 г.) и более высоким уровнем безработицы (РИА Новости, 1 ноября 2021 г.), где оппозиция агрессивным действиям российского руководства более остра. Хорошие примеры включают южные республики Карачаево-Черкесию и Калмыкию, в каждой из которых зарегистрировано по шесть смертей. Калмыкия представляет собой особенно показательный случай, поскольку она этнически и религиозно близка к Бурятии. Однако самое очевидное отличие состоит в том, что калмыки, как и карачаевцы, подверглись массовым сталинским репрессиям, которые, должно быть, оставили шрамы в их психике и сформировали их отношение к Москве.
Для продолжения кампании на Украине Кремлю необходимо постоянно набирать новые войска. Пока его усилия были сосредоточены в основном на Северном Кавказе, Дальнем Востоке и Сибири. Поскольку местные жители не проявляли особого рвения к войне Москвы в Украине, чеченское руководство все чаще вербует нечеченцев для обучения и отправки в зону конфликта (Grozny-inform.ru, 31 марта; РБК, 14 мая). Напротив, энтузиазм бурят, дагестанцев и осетин по поводу войны все еще кажется существенным, несмотря на гибель многих молодых людей (Радио Свобода, 10 мая; Медуза, 10 апреля; Region15.ru, 2 марта).
Напротив, энтузиазм бурят, дагестанцев и осетин по поводу войны все еще кажется существенным, несмотря на гибель многих молодых людей (Радио Свобода, 10 мая; Медуза, 10 апреля; Region15.ru, 2 марта).
Те три республики, которые традиционно более тесно идентифицировали себя с Россией, скорее всего, продолжат поставлять призывников для «специальной военной операции» Москвы на Украине. Но по мере того, как все больше призывников возвращаются домой в мешках для трупов, все чаще возникают вопросы о том, как положить конец войне, которая принесла столько страданий и изолировала Россию за границей.
Как война на Украине может изменить баланс межэтнических отношений в России?
В 2000-е годы национальная автономия в составе России стала стержнем и авангардом происходивших процессов дедемократизации и централизации власти. Они даже получили собирательное название — «избирательные султанаты». А в 2022 году этнические буряты, якуты, башкиры и дагестанцы оказались в авангарде российского вторжения в Украину.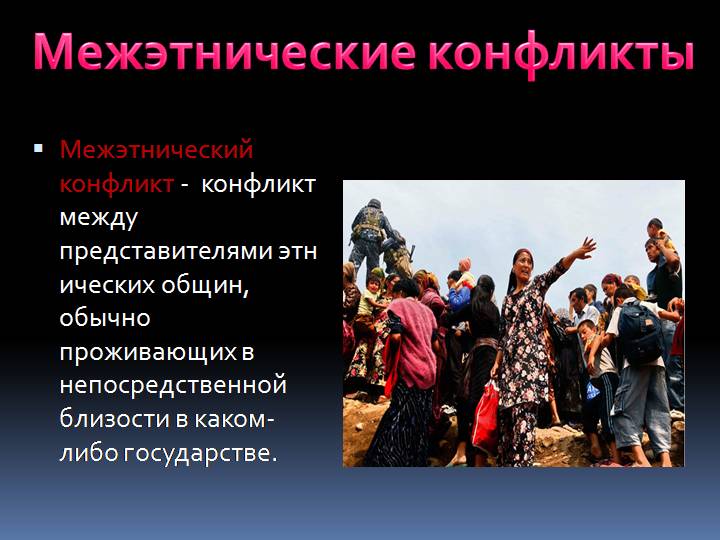 Однако после неудавшегося блицкрига и значительных человеческих потерь, когда эти регионы ощутили на себе особенно тяжелое бремя «частичной» мобилизации, именно в этих районах произошли наиболее энергичные и масштабные антивоенные протесты. Можно лишь предположить, что активизация антиколониальных дискурсов, а также вероятное в будущем ослабление федерального центра на фоне зарождающихся в России этнополитических и сепаратистских настроений выступит катализатором зарождающихся в России этнополитических и сепаратистских настроений. чувства. В любом случае, весьма вероятно, что эти области больше не будут играть центральную роль в консолидации российского авторитаризма. Это особенно верно, учитывая, что первые признаки такой тенденции были видны еще до войны.
Однако после неудавшегося блицкрига и значительных человеческих потерь, когда эти регионы ощутили на себе особенно тяжелое бремя «частичной» мобилизации, именно в этих районах произошли наиболее энергичные и масштабные антивоенные протесты. Можно лишь предположить, что активизация антиколониальных дискурсов, а также вероятное в будущем ослабление федерального центра на фоне зарождающихся в России этнополитических и сепаратистских настроений выступит катализатором зарождающихся в России этнополитических и сепаратистских настроений. чувства. В любом случае, весьма вероятно, что эти области больше не будут играть центральную роль в консолидации российского авторитаризма. Это особенно верно, учитывая, что первые признаки такой тенденции были видны еще до войны.
С самого начала российского вторжения в Украину одной из самых ярких особенностей была высокая концентрация этнических меньшинств в рядах российских военных (в то время контрактников). Хотя сведений об этническом составе российских войск нет, среди первых подтвержденных потерь было явное преобладание нерусских фамилий. В то время как отряды чеченской Росгвардии, направленные в зону боевых действий по указу Рамзана Кадырова, активно афишировали свое участие в войне, в ходе журналистских расследований была выявлена причастность большого количества выходцев из других этнических регионов.
В то время как отряды чеченской Росгвардии, направленные в зону боевых действий по указу Рамзана Кадырова, активно афишировали свое участие в войне, в ходе журналистских расследований была выявлена причастность большого количества выходцев из других этнических регионов.
Как ранее сообщало Re:Russia, имеющиеся данные о количестве подтвержденных потерь российских военнослужащих с 24 февраля по 26 декабря 2022 года собрали BBC и «Медиазона». Аналитики Telegram-канала «Демография упала» установили, что количество подтвержденных смертей в Республике Тыва превышает среднероссийский показатель на 100 тысяч взрослых мужчин (33 случая смерти на 100 тысяч) в 5,5 раза (172 случая на 100 тысяч), в Бурятии более чем в 5 раз (162 на 100 тыс.), в Северной Осетии и Республике Алтай в 3 раза (109и 102 на 100 тыс. соответственно), а в Ненецком и Чукотском АО более чем в 2 раза (78 человек и 76 на 100 тыс. соответственно).
В то же время при «частичной» мобилизации именно эти национальные республики становились основным источником пополнения войск. Согласно расследованию «Важные истории», Красноярский край мобилизовал в 4,5 раза больше мужчин, чем было предусмотрено в мобилизационном приказе министра обороны, при этом этнические регионы также мобилизовали больше, чем указано в этом документе — Бурятия (в 3 раза больше), Дагестан ( в 2 раза больше) и Калмыкии (в 1,8 раза больше). Именно на этом фоне Дагестан, Бурятия и Якутия стали регионами с самыми громкими и многочисленными антимобилизационными протестами.
Согласно расследованию «Важные истории», Красноярский край мобилизовал в 4,5 раза больше мужчин, чем было предусмотрено в мобилизационном приказе министра обороны, при этом этнические регионы также мобилизовали больше, чем указано в этом документе — Бурятия (в 3 раза больше), Дагестан ( в 2 раза больше) и Калмыкии (в 1,8 раза больше). Именно на этом фоне Дагестан, Бурятия и Якутия стали регионами с самыми громкими и многочисленными антимобилизационными протестами.
Этнические регионы одними из первых были включены в политическую вертикаль в начале 2000-х годов, став надежным источником контролируемой электоральной поддержки Путина, «Единой России» и административных кандидатов на всех избирательных уровнях. В результате их окрестили «избирательными султанатами». Экономически зависимое сельское население этнических республик, по мнению политолога Генри Хейла, составляет основу доминирования «Единой России» в представительных органах. Это достигалось как за счет прямой фальсификации, так и за счет организации контролируемого голосования, что легче всего было осуществить среди сельских этносов благодаря плотности связей и надежности патерналистских сетей. Хейл также продемонстрировал, что лояльность этнических республик была куплена почти полным субсидированием регионов центром. При этом, за исключением Тюменских нефтегазоносных районов, они оставались регионами с уровнем жизни ниже, чем в среднем по России.
Хейл также продемонстрировал, что лояльность этнических республик была куплена почти полным субсидированием регионов центром. При этом, за исключением Тюменских нефтегазоносных районов, они оставались регионами с уровнем жизни ниже, чем в среднем по России.
Между тем как на индивидуальном, так и на бытовом уровне вопросы межэтнических отношений в российском обществе носили колониальный оттенок. В обзоре «Нерусский мир» издание «Холод» приводит множество наглядных примеров, на которых этнические калмыки, татары, башкиры, буряты, лакцы и якуты делятся опытом повседневной дискриминации при поиске жилья, получении школьного и университетского образования, взаимодействие с органами власти на низших уровнях и т. д. В то же время, как отмечается в обзоре, такая дискриминация создает у этнических меньшинств ощущение «вторичности гражданства» по отношению к этническому русскому населению. Таким образом, хотя этнические республики сыграли важную роль в построении эффективной системы политического контроля в России, их подчеркнутая лояльность Кремлю не только не сдержала, но и усугубила проблемы их колониального «второстепенного статуса».
Социологи Алексей Бессуднов и Андрей Щербак провели полевые исследования по изучению проблемы этнической дискриминации на рынке труда и пришли к выводу, что дискриминация имеет место, но имеет сложный структурный характер. Не все «нерусские» сталкиваются с повышенной дискриминацией, и чаще всего с ней сталкиваются этнические группы южного происхождения (таджики, узбеки, чеченцы, азербайджанцы, грузины, армяне) по сравнению с этническими группами европейского происхождения (немцы, евреи, украинцы, латыши и литовцы). Социологи Ольга Авдеева и Ричард Мэтланд провели лабораторный эксперимент, чтобы определить, влияет ли этническая принадлежность мэра российского города на оценку его деятельности горожанами разных национальностей. Их результаты показывают, что этническая принадлежность является фактором в регионах, которые являются этнически поляризованными. В Архангельской области, Бурятии, Татарстане и Якутии, например, этническая принадлежность играла роль лишь в оценке деятельности общественного деятеля в Республике Саха: якуты выше оценили мэра-якута по национальности, а русские продемонстрировали большую лояльность к мэру-русскому по национальности. .
.
Долгое время считалось, что вопросы этничности ограничиваются частными межличностными отношениями, а политические власти могли уверенно опираться на поддержку этнических групп. Однако еще до войны эта ситуация начала меняться. Например, крупные и успешные гражданские протестные движения против строительства мусоросжигательного завода в Шиесе на границе Архангельской области и Республики Коми, а также протесты в Башкортостане против уничтожения Куштауского шихана имели как четкую этническую, так и пост-этническую окраску. -колониальное измерение.
План Кремля по объединению Архангельской области и Ненецкого автономного округа вызвал широкую оппозицию в 2020 году, и планы либо были остановлены, либо полностью отменены. Самыми ярыми противниками были этнические ненцы, которые видели в слиянии угрозу своему языку и культуре. В результате этого инцидента схема голосования в автономном округе изменилась: регион стал единственным субъектом Российской Федерации, не поддержавшим конституционные поправки 2020 года (55,25% против и 43,78% за), а «Единая Россия» получила только 29 голосов.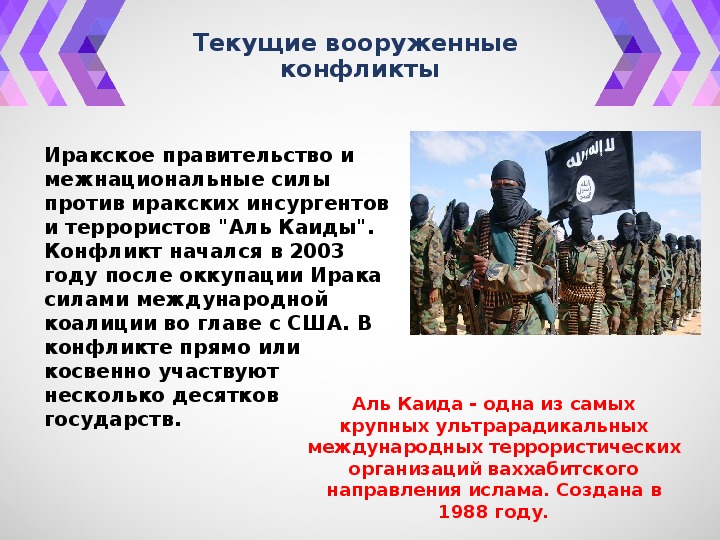 0,1% на выборах в Государственную Думу региона год спустя, что является одним из худших результатов партии на выборах в стране.
0,1% на выборах в Государственную Думу региона год спустя, что является одним из худших результатов партии на выборах в стране.
Наиболее существенной причиной такого дисбаланса стал закон 2017 года о «добровольном изучении» языков национальных меньшинств, который позволил школам избавиться от изучения «родных языков». Закон вызвал бурю критики и протестов, а общественное движение Демократический конгресс народов России осудило его как неконституционный. Этнические группы из Дагестана, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Северной Осетии, Марий Эл, Саха-Якутии, Татарстана, Чувашии, Алтая, Башкортостана и Коми поддержали требование изменить новую языковую политику. Протесты этнических активистов в Башкортостане, например, требовали «обязательного преподавания башкирского языка как государственного в школах» и восстановления учебных часов, ранее отведенных на его изучение.
Активисты меньшинств, выразившие свое несогласие с этим законом, подверглись репрессиям. Однако, как отмечает социолог Гузель Юсупова, давление, оказываемое Центром на общественные движения в защиту языков меньшинств, лишь еще больше настроило пострадавшее население против языковой политики Москвы. Согласно исследованию, проведенному политологом Станиславом Шкелем, языковая реформа 2017 года оказала значительное влияние на лояльность национальных меньшинств к центральной власти. Электоральные рейтинги «Единой России» не упали в тех регионах, где местным элитам удалось сдержать недовольство новым законом и тем самым погасить зарождающийся протест (Татарстан и Чувашия). Однако в регионах, где элиты поспешили выразить лояльность и поддержать закон, не считаясь с мнением своего этнического населения (Башкортостан и Якутия), электоральное поведение граждан изменилось. Это было видно по результатам как президентских выборов 2018 года, так и референдума по конституционным поправкам 2020 года.
Однако, как отмечает социолог Гузель Юсупова, давление, оказываемое Центром на общественные движения в защиту языков меньшинств, лишь еще больше настроило пострадавшее население против языковой политики Москвы. Согласно исследованию, проведенному политологом Станиславом Шкелем, языковая реформа 2017 года оказала значительное влияние на лояльность национальных меньшинств к центральной власти. Электоральные рейтинги «Единой России» не упали в тех регионах, где местным элитам удалось сдержать недовольство новым законом и тем самым погасить зарождающийся протест (Татарстан и Чувашия). Однако в регионах, где элиты поспешили выразить лояльность и поддержать закон, не считаясь с мнением своего этнического населения (Башкортостан и Якутия), электоральное поведение граждан изменилось. Это было видно по результатам как президентских выборов 2018 года, так и референдума по конституционным поправкам 2020 года.
Есть основания полагать, что война на Украине, а также активное использование солдат из числа меньшинств в боевых действиях еще больше изменит политический баланс в отношениях между этническими регионами страны и Москвой. Основываясь на результатах репрезентативного опроса Левада-центра, социолог Кайл Марквардт утверждает, что этнические буряты и татары в Бурятии и Татарстане отличаются от этнических русских по двум важным параметрам: они демонстрируют меньшую поддержку как Путину, так и вторжению в Украину. Хотя Марквардт признает, что его выводы носят предварительный характер из-за специфики имеющихся данных опроса, влияние войны на политико-этническую поляризацию российского общества представляется очень значительным.
Основываясь на результатах репрезентативного опроса Левада-центра, социолог Кайл Марквардт утверждает, что этнические буряты и татары в Бурятии и Татарстане отличаются от этнических русских по двум важным параметрам: они демонстрируют меньшую поддержку как Путину, так и вторжению в Украину. Хотя Марквардт признает, что его выводы носят предварительный характер из-за специфики имеющихся данных опроса, влияние войны на политико-этническую поляризацию российского общества представляется очень значительным.
Особенно важно, что эти данные относятся к Бурятии и Татарстану. Оба региона по-своему давно демонстрируют свою лояльность Кремлю. И то, и другое дало положительные результаты для «Единой России», а бурятские контрактники в большом количестве участвовали во вторжении России на Украину в начале 2022 года. Именно на этом фоне в Бурятии происходили гражданские протесты против мобилизации и войны в целом. Татарстан, с другой стороны, является уникальным регионом, поскольку местные элиты сумели найти благоприятный баланс между лояльностью к центру, защитой интересов титульного этноса и собственной относительной автономией в постсоветский период. И если общественное мнение этнических групп в этих регионах сместится в сторону поляризации по этническому признаку, когда речь заходит о ключевых проблемах режима — поддержке Путина и войне — это может иметь серьезные политические последствия.
И если общественное мнение этнических групп в этих регионах сместится в сторону поляризации по этническому признаку, когда речь заходит о ключевых проблемах режима — поддержке Путина и войне — это может иметь серьезные политические последствия.
Историк Юрий Слезкин классно использовал метафору «коммунальной квартиры» для описания этнической политики в СССР. С одной стороны, советская власть была озабочена тем, чтобы национальные меньшинства сохраняли свою материальную культуру, язык и декларативную административную автономию. Но, с другой стороны, они ввели строгие правила в жизнь разных народов, ограничив их возможность покидать отведенные им комнаты в этой метафорической «коммуналке». Русские служили клеем, скрепляющим эту общеколониальную модель, и покровительствовали всей «семье» народов. Наследие этой модели играет центральную роль в нынешнем российско-украинском конфликте. Нарратив о крахе Украины как государства и подчинении украинской культуры русской культуре уходит своими корнями в традиционную колониальную этническую политику царской, а затем советской России.
